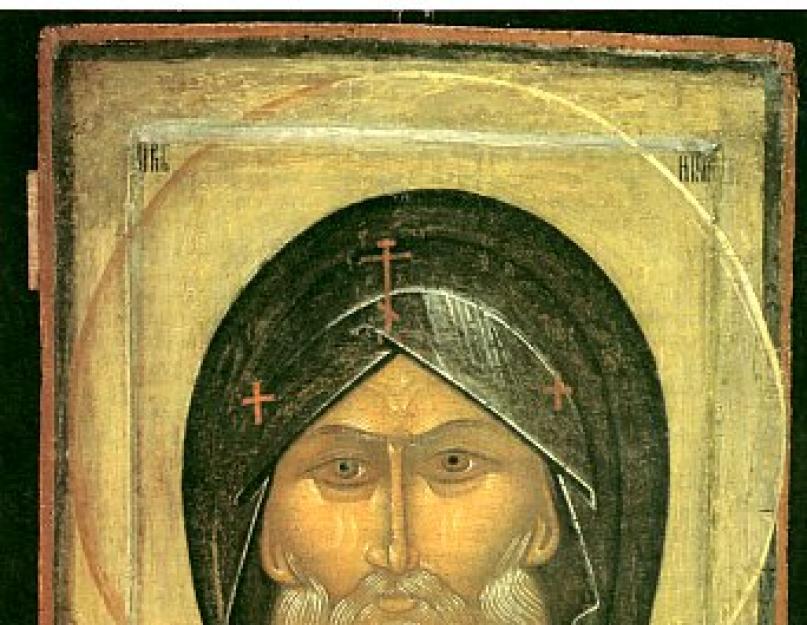Православная Русь унаследовала от Византии «представления о монашестве как ангельском образе и о святости как полном осуществлении монашеского призвания» . «Великое ангельское подобие», «великий ангельский образ» – так говорит о монашестве московский митрополит Фотий в грамоте 1418 г. Устроители монашеской жизни, основатели лавр и монастырей, духовные учители народа – преп. Антоний и Феодосий Печерские, преп. Сергий Радонежский, преп. Зосима и Савватий Соловецкие, преп. Кирилл Белозерский, преп. Серафим Саровский , Оптинские старцы и многие другие – пользуются на Руси особым почитанием.
Первые монастыри появились вскоре после Крещения Руси, когда монашество прошло уже длительный, в семьсот лет, исторический путь от египетских пустынь и Палестины до Константинополя и Святой Афонской Горы, разработало правила подвижничества, оформленные в уставах (преп. Пахомия, св. Василия Великого , Венедикта, Иерусалимский, Студийский, Афонский и др.), создало великую аскетическую литературу, испытало практикой различные формы устроения духовной жизни – анахоретство-отшельничество и общежитие-киновию, а также «средний путь», называемый также «лаврским», «царским», «золотым». Русским инокам предстояло изучить и освоить всю полноту и цельность восточной аскетической традиции и, осознав, что наиболее соответствует русским природно- географическим и социокультурным условиям, выработать собственный тип аскетического делания, собственный монашеский идеал.
Монашество возникло в Египте в конце III – начале IV в. и опиралось на опыт как эллинистической (добродетели стоицизма), так и предхристианской (ессеи и терапевты), новозаветной (пример Иоанна Предтечи) и раннехристианской аскетики первых веков. Отдельные анахореты и даже небольшие «монастыри» существовали во II-III вв. и в Египте, и на Синае; к числу «монахов до монашества» относят, например, св. Павла Фивейского . Основателем, «отцом» монашества считается преп. Антоний Великий, патриарх анахоретов (t в 356 г. в возрасте более 100 лет), хотя и он уже имел старцев-руководителей. Преп. Антоний Великий родился ок. 251–253 гг. в селении Комы в Среднем Египте. В возрасте ок. 20 лет принял решение удалиться от мира, уединился в заброшенной гробнице недалеко от своего селения, где провел более 15 лет, а затем еще 20 лет прожил в полном одиночестве в Фиваид- ской пустыне. Но постепенно о нем распространилась слава как о великом святом, вокруг его кельи поселилось множество желающих подражать ему в подвижничестве, а также немощных и скорбящих, и, по словам св. Афанасия Александрийского , «пустыня превратилась как бы в город монахов». От него «форма монашеской жизни получила быстрое распространение. Его имя стало звеном, связавшим всех отдельных, неизвестно где блуждавших отшельников в братские общины… его нравственно-аскетические наставления и воззрения легли в основание всей последующей аскетики». Отношения св. Антония с учениками не были подчинены каким-либо строгим правилам, но имели духовный характер, не было настоятелей и простых иноков, все были равны между собой .
Важным центром монашества в Нижнем Египте были пустыни Нитрийская, Келлий, Скитская («Скит» первоначально – не обозначение типа подвижничества, а географическо-топографический термин) . В пустыне Келлий иноческие жилища были удалены друг от друга, монахи собирались вместе в храм для общего богослужения лишь по субботам и воскресеньям. Труднодоступная пустыня Скита прославилась благодаря подвигам преп. Макария Египетского (t в 390 г.), преемника и продолжателя преп. Антония . К концу IV в. она стала одним из главных средоточий иноческой жизни. Образ жизни монахов этих пустынь был полуобщежительным, совмещавшим черты киновии и анахоретства и послужил, вероятно, основой и образцом той более поздней формы византийского монашества, которая известна как келлиотство. Она повлияла и на палестинское монашество благодаря группе скитских монахов, переселившихся в Палестину в конце IV – начале V в.
Строгое общежитие в Египте было введено преп. Пахомием Великим (287–346), ему принадлежит и первый общежительный устав (открытый ему, по преданию, ангелом); к нему примыкают правила св. Василия Великого (t 379), основателя киновий в Малой Азии .
У истоков палестинского монашества стояли св. Иларион Великий, св. Харитон Исповедник и св. Евфимий Великий, дело которых продолжили преп. Савва Освященный и преп. Феодосий Киновиарх. После посещения Антония и более чем двадцатилетнего строгого отшельничества (308–330), Иларион основал обитель в Газе, в южной части Палестины. Она представляла собою скорее добровольный союз, чем строго организованную общину, здесь не было правил, определявших отношения к настоятелю, обязанности, распорядок жизни. Не было ни храма, ни общих молитвенных собраний; ее члены посещали храмы близлежащих селений. Монастырь состоял из множества разбросанных по пустыне келий .
Св. Харитон Исповедник (t 350), основатель первой палестинской лавры в Айн-Фаре, в Иудейской пустыне, в 10 км к северо-вос- току от Иерусалима, продолжил дело правильного устроения монашеской жизни в Святой земле. Подвижники Харитоновой лавры, занявшие вскоре своими пещерными кельями все Фаранское ущелье, не были «дикими» отшельниками: они входили в состав общины, каждый из членов которой жил отдельно от других, хозяйничал и трудился для себя; но для всех был общий закон, общий начальник и общий храм молитвы, и таким образом отдельные жилища и их обитатели соединялись в одно целое… Лавры составляли как бы посредствующую ступень между строгим отшельничеством и общежитием, или «соединение» этих двух форм. К правилам св. Харитона возводят начало Иерусалимского устава. Они касались правил пищи и пития, порядка и цели дневных и ночных псалмопений, значения постоянного пребывания в монастыре, обязанностей гостеприимства, власти настоятеля .
Более тесное соединение лавры и киновии характерно для подвижничества св. Евфимия Великого (377–473). Основанная им и его сподвижником блаженным Феоктистом (t 467) лавра была совершеннее лавр IV в.: подчинение келлйотов авве было значительно больше, а власть его шире; он заботился и о духовных подвигах, о пропитании добровольно подчинившихся ему аскетов, от которых требовалось подчинение лаврскому уставу. У входа в лавру было устроено общежитие, где неопытные еще подвижники проходили первые ступени монашеского послушания до тех пор, пока настоятель киновии не находил их способными к жизни келлиотской .
Преп. Савва Освященный (439–532) был устроителем и распространителем лавр. Иерусалимский патриарх назначил его архимандритом-начальником всех палестинских «мандр»: лавр и келий. Вместе с тем его занимало и устроение киновий, раскрытие правильного взаимоотношения лавр и киновий. Сам преп. Савва, в отличие от многих других подвижников, начинал свою монашескую жизнь не в качестве отшельника, но в общежительных монастырях, и лишь после более чем десятилетнего пребывания в монастыре св. Феокти- ста, где существовали и отшельнические кельи, и киновия, получил благословение жить в уединенной пещере. Собственную общину он основал в 484 г.; всего им было создано три лавры и четыре киновии; но, по словам его агиографа, Кирилла Скифопольского , на деле под его влиянием учениками и сподвижниками было создано значительно больше обителей, он населил палестинскую пустыню подобно городу .
Если киновии при преп. Евфимии Великом и преп. Савве Освященном не считались еще такой же самостоятельной формой монашеской жизни, как и лавры, но лишь готовили монахов к более совершенной лаврской жизни, то в палестинских городах преобладали строго-общежительные монастыри; «киновия – дальнейший шаг в развитии монашеской общины, завершение этого развития – должна была со временем проникнуть из городов в пустыни и здесь занять такое же положение, как и лавра» . Окончательное утверждение общежительства в лаврах Иудейской пустыни связано с деятельностью преп. Феодосия Киновиарха (424–529).
Помимо палестинских обителей , огромное влияние на дальнейшее развитие византийского монашества, на афонские монастыри, а впоследствии – и на русские оказала суровая сирийская аскетическая традиция, представленная именами святых Ефрема Сирина , Симеона Столпника .
Позже, с IХ-Х вв. важнейшим центром православного монашества стала Святая гора Афон , с которой непосредственно связаны истоки русского монашества. Преп. Антоний Печерский принес избранному им месту подвижничества близ Киева благословение Святой горы .
Создателями первого большого монастыря Древней Руси были преп. Антоний и преп. Феодосий Печерские, тезоименитые патриарху египетских анахоретов преп. Антонию Великому и устроителю палестинского общежития преп. Феодосию, что символически возводит истоки русского монашества к двум главным традициям иноческого Востока. Это осознавалось уже современниками, уподобление принадлежит составителю Киево-Печерского патерика. Процитировав евангельские слова «мнози будут последний пръвии», он пишет о преп. Феодосии Печерском: «Тако бо и сий последний вящыпий первых отец явися, житием бо подражаа святого пръвоначальника чрънечьскому образу Великаго меню Антониа, близьствене еже своему тезоименному Феодосию, Ерусалимскому архимандриту» .
* * *
Изучение монастырей и монашества имеет длительную и сложную историю, на которую оказывал влияние господствующий тип общественного сознания. Влияние, впрочем, – и это следует подчеркнуть, – было не односторонним, но взаимопроникающим, так как монашеские аскетические идеалы также способствовали формированию типа общественного сознания или его отдельных составляющих, что проявлялось, разумеется, по-разному в средневековье и в новое время, в XVI в. и в XIX в. Можно условно выделить три историографических направления: церковная историография; светская фундаментальная наука; светская либеральная историография с большим или меньшим публицистическим элементом. Разумеется, четкой грани между ними не было; так, В. СХ Ключевский был профессором и Московского университета, и Московской Духовной академии, отдавая, впрочем, дань и либеральным настроениям своего времени.
Историография проблемы имеет разный характер, разные приоритеты в XIX и XX вв. Общий очерк истории монастырей, основанный на широком привлечении разнообразных источников, в том числе и неопубликованных, впервые вводимых в научный оборот, дается в «Истории Русской Церкви» митрополита Макария (Булгакова), доведенной до XVII в. Опубликованная более ста лет назад, она сохраняет актуальность и для науки сегодняшнего дня, хотя с тех пор появилось значительное число публикаций источников и глубоких исследований, посвященных отдельным периодам, явлениям, событиям истории Церкви, монастырей и монашества. Не меньшее значение имеют соответствующие разделы «Истории Русской Церкви» академика Е. Е. Голубинского. До сих пор используются труды В. В. Зверинского «Материалы для историко-топографиче- ского исследования о православных монастырях в Российской империи…» (СПб., 1890–1897. Ч. I-III), хотя ряд его данных требует уточнения, Л. И. Денисова «Православные монастыри Российской империи» (М., 1908). Очерки истории православного монашества содержатся в труде П. С. Казанского (М., 1856), в книге И. К. Смолича «Русское монашество: 988–1917», изданной в 1953 г. на немецком языке. В 1997 г. вышел ее перевод на русский язык. В приложении к книге была опубликована работа того же автора «Жизнь и учение старцев», написанная в 1936 г. Следует упомянуть работу Г. П. Федотова «Святые Древней Руси», изданную впервые в 1931 г. в Париже, затем в Нью-Йорке и снова в Париже, а в 1990 г. в Москве, «Очерки по истории русской святости» иером. Иоанна (Кологривова) (Брюссель, 1961) и др.
Для истории монашества первостепенное значение имеют произведения агиографического жанра; исследование В. О. Ключевского «Древнерусские жития святых как исторический источник» (М., 1871; репринт М., 1988) остается единственным опытом исследования истории явления в целом. Хотя существуют и другие труды о русских святых, в том числе преподобных, они значительно уступают очерку Ключевского по широте источниковой базы. Если многотомную «Историю Русской Церкви» митрополита Макария можно сравнить с «Историей России с древнейших времен» С. М. Соловьева, то значение труда В. О. Ключевского «Древнерусские жития святых как исторический источник» – с исследованиями А. А. Шахматова по истории летописания; оба автора не только предложили методику, неизвестную их предшественникам, но и сами выполнили огромный кропотливый труд по ее реализации, по выявлению и текстологическому сопоставлению памятников. По-видимому, такой синтезирующий подход возможен лишь на заре развития какой-ли- бо отрасли знания, в дальнейшем все более детализирующий анализ ведет к росту специализации, а синтез становится достижим иным путем или на другом уровне. В дальнейшем исследования были сосредоточены на истории отдельных монастырей и отдельных житий святых. Можно назвать двухтомное исследование Н. К. Никольского, посвященное Кирилло-Белозерскому монастырю и его устройству (СПб., 1897–1910), труд Н. И. Серебрянского по истории монастырской жизни в Псковской земле (М., 1908) и ряд других.
Наряду с научными исследованиями публиковались и работы, предназначенные как для широких кругов верующих, так и для тех, кто интересовался общими и частными вопросами истории монастырей и монашества вне рамок строго академического подхода.
Неизменный интерес вызывали монастырские имущества, история монастырского землевладения и секуляризации. Что касается собственно монашеской жизни, духовности, внутренней истории монастырей, их внутренней организации, не имеющей прямой связи с размерами земельных владений, то о ней мы не найдем таких всесторонних изысканий, как в вопросе об имуществах. Богатства монастыря подчас возбуждали больший интерес, чем монашеское подвижничество. Впрочем, издавалось значительное количество работ, представлявших монашество широкому кругу читателей, но они относятся скорее к сфере литературных жанров, нежели исторических исследований (А. Н. Муравьев о Северной Фиваиде, Е. Поселянин о русских подвижниках XVIII в., о Серафиме Саровском).
Исследователь монашества и монастырей в России сталкивается с парадоксом. С одной стороны, бесспорны и очевидны авторитет и почитание, которым окружены личность монаха и святая обитель; монашеский идеал оказывает влияние как на духовную сторону жизни, так и на формирование нравственного облика, нравственных ценностей и ориентаций общества, его менталитет не только в средние века, но и в новое время. Это хорошо знает классическая русская литература (Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). С другой стороны, не менее очевидна тенденция критики представителей монашества и монастырских порядков, столь же древняя, как и его апологетика. Обе постоянно давали о себе знать на протяжении всей истории монашества. Критика могла исходить как от мира, из светской среды, так и иметь вну- трицерковный и внутримонашеский характер, при этом в разных случаях ее цели и объекты были разными.
Наличие этой устойчивой обличительной тенденции и ее активизация в те или иные исторические периоды дают иногда повод историкам монашества говорить о его «кризисе» то на рубеже XV-XVI вв., то на рубеже ХIХ-ХХ вв., о потребности в его «реформе». При этом не учитывается, что критика, в особенности исходящая из среды самого монашества, могла быть обусловленна именно авторитетом аскетического идеала и желанием возродить его первоначальное содержание, освободить от тех наслоений и искажений, которым он подвергался под воздействием «стихий мира сего».
Что касается светской критики монашества, то она могла быть вызвана «корыстолюбивым нечестием» (выражение Ф. И. Буслаева), корыстолюбивыми, фискальными мотивами. За критикой монашества могло стоять стремление к секуляризации не только монастырских имуществ, но также культуры и нравственности. Питательной средой становились и нарушения, недостатки, «нестроения», неизбежные в любой, в том числе и в монашеской среде. Поэтому необходимо дифференцированное отношение к «критике». Каждый случай требует собственного объяснения в зависимости от того, из каких кругов критика исходила и какие имела цели. Надо учитывать и педагогическое значение обличений внутри христианской традиции, начиная с самых древних эпох.
Привлекал внимание и другой парадокс, состоявший в диалектическом сосуществовании «отвержения мира» как исходного принципа монашеского подвижничества, и «служения миру», которое могло приобретать разные формы. Их соотношение, как и содержание самого служения часто становилось предметом полемики, и здесь тоже следует различать разное его понимание и толкование внутри самого монашества и в светской секулярной среде. Острота проблемы обнажилась на рубеже XV-XVI вв. и в следующие десятилетия в полемике, получившей в литературе неточное определение «борьбы между иосифлянами и нестяжателями»; а в начале XX в. вновь возродилась в журнально-богословской дискуссии под девизом «на службе миру – на службе Богу» . В рамках этой острой и напряженной дискуссии оказалось необходимым вернуться к ценностям и опыту прошлого, в частности, были опубликованы известные статьи Е. Ф. Каптерева «В чем состоит истинное монашество по воззрениям преподобного Максима Грека» и С. И. Смирнова «Как служили миру подвижники Древней Руси?»
Атеистическая эпоха, вопреки тому, что можно было бы ожидать, внесла определенный вклад в изучение института монастырей и монашества. Подлинная наука, ушедшая в эти годы в источниковедческое подполье, дала ценные публикации документального материала и историко-филологические исследования (также в ряде случаев сопровождавшиеся публикациями) памятников агиографического жанра. Особое внимание уделялось источниковедению, текстологии. Сохранялась традиция исследования темы, не затухал интерес к огромному пласту источников, широкое привлечение которого позволяет теперь более полнокровно представить историю России с древнейших времен до наших дней. Возникает возможность преодолеть односторонний подход к монастырям с точки зрения их роли в социально-экономической и политической жизни общества и глубже исследовать их вклад в сокровищницу русской духовной культуры, показать полноту влияния христианского подвижничества и аскетического идеала на формирование духовных и нравственных ценностей.
Основная задача предлагаемых очерков состоит в том, чтобы дать целостную картину истории русского монашества и монастырей, их исторической эволюции (от возникновения до насильственной ликвидации после Октябрьской революции и возрождения в наши дни), определить их специфику в разные исторические эпохи, на разных исторических этапах. Важно было определить связь монастырей со всем ходом исторического развития России, их влияние на все стороны жизни общества, как материальной, так и духовной, особенно в средние века, многоплановый характер их отношений с миром в новое время.
Большой хронологический охват, как и объем исследуемого материала (историографического и источникового), обусловили то, что очерки не могут претендовать на полноту, но имеют своим объектом ключевые этапы истории монашества и монастырей, наиболее важные или спорные проблемы. Это появление русского монашества, киево-печерский период; деятельность Сергия Радонежского и общежительная реформа XIV-XV вв.; распространение пустынножительства и рост числа монастырей в XV-XVI вв., их роль в процессе внутренней колонизации, внутреннего освоения земель, в изменении природного ландшафта, превращении его в антропогенный; полемика по поводу типов монастырского устройства и задач монашеского служения, более известная как борьба «иосифлян» и «нестяжателей», возникшая в начале XVI в. и неожиданно возродившаяся (на новой основе) в начале XX в.; монастыри XVII в. и деятельность монашеских «ученых дружин»; значение секуляризации XVIII в. для монашества и монастырей; русское старчество; юридическое положение монастырей в XIX в., государственная политика по отношению к монастырям, работа монашеского съезда; трагическая судьба монастырей, монашества, церковной иерархии в XX в.
Другая цель – выявление наименее изученных проблем, перспектив дальнейшего исследования. В работе, посвященной тысячелетней истории русского монашества, многие темы могли найти лишь частичное освещение и требуют более углубленного исследования с привлечением архивного материала. Назовем некоторые из них.
1 . Изучение памятников агиографического жанра в связи с историей монашества и аскетического богословия, с проблемами национального самосознания, культуры, нравственности. Необходима разработка методики исследования житий и их богатой рукописной традиции как массового источника эпохи средневековья.
2 . Изучение и публикация монастырских уставов – как богослужебных, так и дисциплинарных, типиконов игуменов. Так, ни пространная редакция Устава Иосифа Волоцкого , ни «скитский устав» Нила Сорского не имеют современного научного издания.
3 . Церковное и светское законодательство относительно монастырей и монашества, что актуально и при разработке принципов и норм современной правовой системы.
4 . Монастыри и монашество накануне и в период первой мировой войны; монашеский съезд 1909 г.
5 . Монашество и культура; роль монастырей как центров духовной культуры.
6 . Исследование отдельных монастырей.
7 . Изучение за рубежом истории и современного состояния русского монашества.
8 . Ряд проблем и тем требует междисциплинарных исследований с привлечением других научных центров: восточные и византийские, особенно афонские истоки русского монашества; монастыри Урала, Сибири, дальнего Востока; монастырская жизнь в старообрядческой среде; особенности монастырского природопользования и хозяйствования; философия и психология православного иночества в сопоставлении с инославными и инорелигиозными аскетическими традициями.
Posted on 17.03.2018
искусство и культура
ответить
комментировать
в избранное
Nekto-svost-oka
3 дня назад
Не смотря на то, что слово "монах" имеет греческие корни (монос, монахос) и изначально означало "уединённый аскет", традиция эта существовала на индоарийском пространстве задолго до христианизации Руси и задолго да Рождества Христова. А, стало быть, конкретные родоначальники не могут быть известны поимённо до тех пор, пока не будут найдены какие-либо конкретные указания на конкретных личностей. Сегодня можно судить о дохристианских монахах конкретно на Руси лишь по косвенным сведениям, дошедшим до нас в былинах, летописях, названиях древних поселений, мест и иной терминологии. Кратко могу сказать, что у наших предков было как минимум три способа уединённо-аскетическ-ого жизненного пути: 1)волхвы, представлявшие жреческую касту, 2) разбойники, представители воинской касты,3)трудники-рем-есленники, осваивавшие места Силы. Некоторые из перечисленных вели оседлый образ жизни, другие были перехожими, ходячими, странствующими, а кто-то сочетал и то и другое. А были ещё и изгои-переселенцы Бандиты, кто-то связывает их с Пандитами, но это спорно и плохо исследовано. К большому сожалению огромный объём культурного наследия наших предков за последнюю тысячу лет под разными предлогами был зверски уничтожен. Но рано или поздно всё вернётся и станет на свои места. Кое-что тот, кто интересуется, может почитать и у меня на ЖЖ здесь, или здесь или в других заметках по "меткам". Я склонен считать Иисуса Христа, если признавать его персонифицированной исторической личностью, странствующим монахом по типу Калики Перехожей. Кстати, когда-то наша православная церковь это косвенно признавала, переделывая былины о Каликах и Илье Муромце, о чём я упоминал в одной из своих статей (читайте по ссылкам). Иисус несомненно нёс в Палестину знания древней восточной индо-арийской родственной нашим предкам традиции. По крайней мере, система "заповедей" чисто Восточная (восточнее Вавилона), но адаптирована под традицию Ветхого Завета для лучшего понимания местными жителями(Палестины и восточных провинций Римской Империи). Так что за неимением других известных в истории имён мы-русские можем смело считать родоначальником нашего монашества самого Иисуса Христа . Это вполне логично. Это вполне доказывается криминалистически, если подходить системно. Другое дело, что изначальная традиция почти утрачена, но это уже другая история, про географию даже не буду.
![]()


Монашество, в узком смысле,- это общинная жизнь с соблюдением обетов бедности, целомудрия и послушания в соответствии с определенным уставом и отрешенностью от мирской суеты. В широком смысле к монашествующим причисляют также отшельников, членов монашеских братств и вообще всех, кто принес монашеские обеты. Монашество сыграло огромную роль в становлении средневековой цивилизации и распространении христианства - как на Востоке, так и на Западе.
Основателем христианского монашества часто считают св. Антония Великого (ок. 250 - ок. 356). В возрасте двадцати лет он продал свое имение, роздал деньги нищим и поселился отшельником недалеко от дома (в Среднем Египте). Святой Антоний проводил дни в молитве, в чтении и заучивании наизусть Св. Писания и в работе. В 35-летнем возрасте он удалился в еще более уединенное место близ горы Писпир, на правом берегу Нила, но молва о его святости на протяжении последующих 20 лет побуждала других отшельников приходить туда и селиться в кельях поблизости от него. В 305 г. св. Антоний, по просьбам этих отшельников, нарушил свое уединение, согласившись наставлять их в аскетической жизни. Общины отшельников, подобные этой, стали впоследствии появляться повсеместно в Среднем и Северном Египте, и это ознаменовало возникновение новой, полуотшельнической, формы монашеской жизни, самыми знаменитыми примерами которой явились общины в Нитрии и Скее. Здесь самые строгие отшельники жили в уединении в кельях, расположенных так, чтобы их обитатели не могли ни видеть, ни слышать друг друга. Другие монахи собирались в церкви по субботам и воскресеньям. Некоторые ежедневно собирались по трое или четверо для совместного чтения псалмов или иногда посещали друг друга, чтобы побеседовать на духовные темы.
Не прошло и пятнадцати лет после этого первого шага, осуществленного св. Антонием, как св. Пахомий положил начало новому типу монашеской жизни -- общежительному монашеству. В 318 г. в Тавенне (Южный Египет) он создал первую киновию (монашеское общежитие), где монахи стали жить вместе в монастыре, обнесенном стеной, в домах, вмещавших по 30-40 человек. На каждого монаха возлагалась определенная работа, и монастырь полностью обеспечивал себя всем необходимым. Совместные трапезы, в которых монахи могли участвовать по желанию, совершались дважды в день, однако те, кто не желал в них участвовать, получали - хлеб и соль в своих кельях. Сам образ жизни отдельных монахов не был строго регламентирован, так как еще не существовало устава, или общего правила монашеской жизни.
Процесс формирования общежительного монашества завершил св. Василий Великий (ок. 330 - ок. 379). Прежде чем посвятить себя монашеской жизни, он совершил путешествие в Египет, чтобы изучить ее в первоистоках, и наиболее привлекательным ему показался общежительный тип. Святой Василий требовал, чтобы монахи в установленные часы суток собирались вместе на молитву и совместные трапезы. Монастыри, устроенные по образцу монастыря св. Василия, распространились по всей Греции, а затем и по славянским странам. Однако в Сирии и некоторых других странах предпочтение по-прежнему отдавалось отшельническому типу монашеской жизни.
Запад впервые познакомился с восточным монашеством при посредстве св. Афанасия Великого, епископа Александрийского, вынужденного бежать в Рим в 339 г. Годом позже Евсевий, епископ Верцеллы в Северной Италии, предписал духовенству своего собора вести киновийный образ жизни, впервые объединив статус клирика с монашеским статусом. Святой Августин сделал то же в отношении своего духовенства, когда в 388 г. возвратился из Рима в Северную Африку.
Общежительный уклад монашеской жизни, в его развитой форме, на Западе утвердился благодаря усилиям св. Бенедикта Нурсийского (ок. 480 - ок. 543). Познакомившись с житиями отцов-пустынножителей и монашеским уставом св. Василия Великого, он стремился приспособить образ монашеской жизни к особенностям условий и климата Западной Европы. В соответствии с системой, принятой св. Бенедиктом, каждый монастырь представлял собой самостоятельную единицу, и каждый монах был пожизненно связан со своим монастырем посредством особого обета, воспрещающего перемену места жительства (stabilitas loci). Бенедикт отчасти смягчил принятую на Востоке строгость монашеской жизни. Он установил часы, в которые монахи собирались на молитву и службы; совместное пение канонических «часов» считалось главной обязанностью бенедиктинских монахов. Бенедиктинство стало определяющей формой монашеской жизни на Западе: к концу XVIII в. все монахи Европы, за исключением Ирландии и некоторых испанских монастырей, были бенедиктинцами.
Возникновение в 910 г. Клюнийского аббатства, а затем Клюнийской конгрегации, явившейся самостоятельной ветвью бенедиктинства, положило начало возникновению монашеских орденов на Западе. Монашеский устав св. Бенедикта был дополнен принципом централизованного управления, при котором настоятель главного монастыря осуществлял руководство целой сетью подчиненных монастырей. Клюнийское аббатство оставалось сердцем монашеской жизни на Западе с X по XII в., пока ему не пришлось уступить свое первенство аббатству Сито и цистерцианцам, самым прославленным из которых был св. Бернар Клервоский (1091-1153).
XIII век стал свидетелем возникновения орденов нищенствующих братьев: доминиканцев, францисканцев и кармелитов. Хотя они, как и монахи предшествующих веков, соблюдали обеты бедности, целомудрия и послушания, следовали строгому уставу и осуществляли совместное пение Часов, цели этих новых орденов были прежде всего апостольские. Они занимались проповедью, обучением, служением больным и нищим и помогали приходскому священству в его работе.
После некоторого спада монашеского движения в XIV - начале XV в. три последующих века стали эпохой беспрецедентного роста числа новых монашеских орденов. Театинцы, возникшие в 1524 г., и иезуиты, чей орден был основан в 1540 г., стали первыми так называемыми регулярными канониками, или уставными клириками (т. е. монахами, имеющими священнический сан): большинство членов этих орденов - священники, занимающиеся строго определенным родом деятельности. От орденов регулярных каноников незначительно отличаются так называемые монашеские конгрегации. К их числу принадлежат пассионисты, основанные св. Павлом Креста (Паоло делла Кроче) в 1725 г., и редемптористы, основанные св. Альфонсом Лигуори в 1749 г. В их задачи входит преимущественно организация миссий и приютов. Кроме того, к числу духовных конгрегаций принадлежат Братья христианских школ, основанные Жаном Батистом де ла Саллем в 1679 г., главная задача которых состоит в воспитании детей и юношества. Наконец, существуют так называемые светские конгрегации, объединяющие священников, которые принесли «временные» обеты (в отличие от «торжественных» и простых «вечных» монашеских обетов). К их числу относят лазаристов, или винсентианцев, по имени Винсента де Поля, основавшего эту конгрегацию в 1624 г., и сульпициан, основанных Жан-Жаком Олье в 1642 г.
Мужские монашеские ордены католичества значительно уступают женским в количественном отношении. История последних тесно связана с историей мужских монастырей. Женские ордены, в большинстве случаев использующие уставы соответствующих мужских орденов, часто называют «Вторыми орденами», и нередко они находятся под юрисдикцией мужского («Первого») ордена. Члены этих женских орденов ведут строго затворнический образ жизни, предаваясь молитве и созерцанию (как, например, кармелитки), либо соединяют молитвы с какой-либо деятельностью, например с уходом за больными или преподаванием.
Терциарии, или члены «Третьих орденов», своим происхождением обязаны св. Франциску Ассизскому. Первоначально они не отказывались от мирских занятий, но при этом соблюдали смягченный устав ордена. Позднее некоторые из них стали жить вместе в общинах, занимаясь уходом за больными и помощью бедным. Со временем они усвоили особое облачение, и сегодня их признают монашескими конгрегациями. Таковы, например, Третий орден св. Франциска или Третий орден св. Доминика. Однако члены некоторых других «Третьих орденов» остаются терциариями в первоначальном смысле, т. е. «братьями-мирянами».
Монашеский образ жизни подразумевает соблюдение евангельских заповедей бедности, целомудрия, послушания и следование определенному «уставу», или «правилу». Такая жизнь требует испытательного периода и подготовки, именуемых послушничеством и новициатом и позволяющих оценить степень пригодности кандидата для монашества. Затем монах принимает на себя обеты бедности, целомудрия и послушания. Устав регулирует всю его повседневную жизнь: одеяние, трапезы, работу, молитвы и аскетические упражнения. Сначала эти обеты приносятся лишь на определенный срок и должны ежегодно возобновляться. Позднее приносятся «вечные» обеты, которые связывают человека на всю жизнь.
Первоначально монахи брали на себя только ту работу, которая не отвлекала их от молитвы (например, плели циновки или корзины). Однако, в соответствии с установлениями св. Пахомия, им надлежало выполнять все работы, необходимые для поддержания общины. Бенедиктинцы (под влиянием клюнийских реформ) возводили свои монастыри в глухом лесу, чтобы отделиться от мира. Вскоре они овладели искусством расчистки лесов и строительства зданий, достигли успехов в сельском хозяйстве. Переписывание рукописей очень рано стало одной из важнейших форм деятельности монахов - в силу постоянной потребности в копиях Св. Писания. Однако позднее монахи стали переписывать и рукописи греческих и римских авторов. Чтобы дать необходимую подготовку желающим поступить в монастырь, создавались монастырские школы, некоторые из них пользовались широкой известностью.
Все эти труды хорошо совмещались с основным родом деятельности монахов - совместным осуществлением суточного круга богослужений. Отказ некоторых монашеских конгрегаций от совместного вычитывания и пения Часов был продиктован стремлением больше времени уделять апостольским трудам (уходу за пациентами в больницах, преподаванию в школах и миссионерской деятельности в дальних странах). В настоящее время любые роды деятельности, совместимые с «евангельскими советами», т. е. с жизнью в бедности, целомудрии и послушании, осуществляются теми или иными монашескими орденами или конгрегациями.
Кто такой монах
Яков Кротов в статье «Что есть монах» дает православный взгляд на монашество: «Монашество существует, пока есть хотя бы один монах. Этим оно похоже на поэзию, которая существует лишь до тех пор, пока "жив будет хоть один пиит". Не читатель поэзии, а поэт нужен для существования поэзии. Монах среди христиан выделяется, как поэт на базаре. Поэт избегает базара прозы - и монах бежит от мира, но не в никуда, а в совершенно определенный, хотя и иной мир.Монах начинается с бегства. В первые три века Церкви были люди, отказывавшиеся от брака, имущества, своеволия. Такой отказ составляет суть монашества. Однако эти люди еше не были монахами. Первый монах, Антоний Великий, добавил лишь одно новое: убежал, физически, телом убежал от людей, причем довольно далеко, чтобы его от людей отделяло расстояние. Очень далеко он убежать не мог, потому что жил в узеньком Египте. Но между ним и людьми лег контрольной полосой песок пустыни.
Россия шире Египта лишь на первый взгляд, а отступать некуда, как заметил еще Кутузов. Как и в Египте, каждый клочок земли тут занят, причем обычно, как и в Египте же, занят государством. Вместо песка в России использовали кирпич, складывая из него стены повыше...
Монастырская стена - расстояние, в целях экономии места вздыбленное вертикально. Она ограждает монаха не от врагов, а от друзей.
Напомним, что "моно" означает "один". Слово это - греческого происхождения: monachos, "одинокий", "ведущий уединенную жизнь". Монах уходит от мира, уединяется, и не так уж важно, сколько в этом уединении людей. Мать-одиночка считается одиночкой, даже если у нее двенадцать детей. Монах одинок, даже когда живет в монастыре, где еще семьсот монахов. Даже его одиночество уже необычно. Вне монастыря одиноким называют человека, который не общается с людьми. Абсолютно одинок человек, который не хочет разговаривать даже с самим собой. Такое одиночество - редкость, и обычно говорят об уединении: человек хочет побыть с самим собой или, если он человек молящийся, с Богом. Монах отнюдь не одинок и не только уединен. Он - один, как один горизонт, каким бы длинным он ни был. Земли много, земли разные, а горизонт - один. Он напоминает о том, что земля соседствует с небом.
Монах "уходит от мира". Казалось бы, это означает, что в мире образуется крошечная пустота. Из ботинка выскочил гвоздик,- невелика беда. Однако монах всегда воспринимается не как пустота, а как досада, как гвоздь в ботинке, колющий ногу, вовсе не ушедший прочь от нас, а зашедший слишком далеко в нашу жизнь.
Монах всегда хотя бы немного пугает, пусть даже человек вовсе ничего не знает о христианстве, потому что пугает всякий верующий человек. В этом и только в этом смысле можно называть подвижников буддизма или синтоизма монахами. Нательный крестик не виден, а если виден, то сразу осуждается как мода,- в общем, можно всю жизнь прожить в Москве и считать, что верующих вокруг как бы нет. Оранжевый или черный, буддистский, христианский или кришнаитский монах, да вообще любой человек в рясе, напоминает, что Бог, кажущийся фантазией, способен на то, на что далеко не всякая реальность способна: сделать явно нормального человека намеренно ненормальным по внешнему облику. Правда, неверующий не прочь заявить, что все верующие ненормальные, но это ведь лишь уловка, в которую сам человек слабо верит. Человек в рясе беспокоит именно потому, что он явно нормальный внутри этой рясы. Ряса просто и выразительно свидетельствует о том, что норма-то, видимо, не одна, а две. Мода, оказывается не единой в своем многообразии; есть две моды, из которых одна нормальная, а другая не поймешь какая, но, к огорчению для большинства, не сумасшедшая.
Монах - слово христианское. Назвать же буддистского подвижника монахом,- все равно что назвать милую девушку ангелом. Девушка возражать не будет, ангелы тоже промолчат (а который возразит - значит, не ангел), но все же сравнение будет не во всем точным. Все три обета, которые приносят христианские монахи, можно найти и у буддистских. Казалось бы, можно определить монаха как отказника от трех наиболее заманчивых в мире вещей: секса, денег и власти. Но этот отказ есть одновременно и утверждение трех сторон одного, вполне положительного, идеала. Три монашеских обета можно ведь выразить положительно: монах обещает быть целомудренным, бедным, послушным. А чего тут, собственно, положительного? Кто не видел озлобленных холостяков, гнусных нищих, омерзительных, хотя и совершенно безвольных трусов?
Нищий или безвольный холостяк, поселившись в монастыре, еще не станет монахом. Целомудренный, не владеющий ничем, смиренный буддист, или агностик, или большевик, все же не будет монахом с точки зрения христиан, которые первыми изобрели это слово. Наконец, ласковый, умный, честный настоятель монастыря тоже может не быть монахом. Таково, во всяком случае, было тревожное предчувствие святых основателей монашества. С этой же тревогой и надеждой всякий нормальный, не ослепленный благодатью христианин всматривается в лицо монаха, если доведется с ним встретиться на улице или хотя бы на фотографии. Особенно тревожно узнать о постриге знакомого в монахи. Как этот человек, вполне такой же, как я, как все, со своими маленькими слабостями (если речь идет о похожести на нас, то все слабости ближнего воспринимаются как маленькие), сможет стать иным? Это не какое-то простецкое "быть или не быть". Это "можно ли быть?"
Целомудрие, бедность, послушание тогда делают человека монахом, когда он принимает их ради Христа. Вот и вся суть монашества. Может быть, буддиста приведет ко Христу его буддистское благочестие. Сказать об этом точно христианам не дано. Может быть, любящего мужа приведет ко Христу его любовь к жене. Такие святые есть точно, в церковном календаре. А монаха приводит ко Христу Сам Христос.
Целомудрие, бедность, послушание есть отказ монаха не от усилий, а от веры в усилия. Всякий другой путь к Богу есть богочеловеческое предприятие, совместная компания, в крайнем случае, у атеиста, чисто человеческое приключение. Монах выбирает крайний путь: целиком довериться Христу, отключившись не только от мира, но и от себя. Христос этого вовсе не требовал. Монахи, однако, совершенно справедливо считают себя точными исполнителями Евангелия, потому что Евангелие есть весть не о том или ином пути ко Христу, а о том, что Христос есть Путь.
Большинство христиан любят монахов именно потому, что монах в принципе есть лишь прозрачность, через которую виден Христос. Святые семьянин, полководец, архиерей показывают, что может сделать Христос и верующие в Него; монах же просто показывает Христа. Поэтому, видимо, в VIII в. именно монахи выступили главными (после Папы Римского) защитниками икон - они ведь сами "всего лишь" живые иконы. Без них жизнь была бы пуста, как храм без креста.
Многочисленные упреки монахам (в протестантизме дошедшие до отрицания монашества) сводятся к тому, что монахи недостаточно монахи. В том, что монахи чрезмерно монашествуют, никто их не обвинял. Если же когда кто обвинял монашество в презрении к людям, то такой человек и Христа обвинил бы в том же. Монах, презирающий людей (и, в частности, кстати, считающий брак мерзостью),- это уже не монах, а ходячее противоречие в терминах, вроде горячего льда или кудахтающего льва. Монах, считающий себя выше не монахов,- это такая же дичь, как Христос, свысока смотрящий с Креста на стоящих у подножия Голгофы.
Монах любит людей любовью Христа - и невидимость монаха в этом мире, его неучастие в человеческих делах, пусть даже самых благочестивых, есть желание Христа не участвовать в делах, а быть невидимой частью всякого человеческого сердца, не помогать людям скоротать век до смерти, а быть среди них живым образом Воскресения. Лучше всего это видно не по монашеским книгам, а по монашеской одежде. Она черна - но это траур не по жизни, это напоминание о том, что сама смерть пронзена Христом насквозь и умирает. Монашеская мантия необычным образом разделена на три расходящиеся полоски ткани - и это всего-навсего напоминание о свивальнике для новорожденного, о том, что есть, есть новая жизнь, и эта жизнь - с Воскресшим.
Уважать монашество не означает обязательно стремиться стать монахом. Любить монашество означает любить Иисуса не как мудрого учителя, способного всегда дать совет, а как Спасителя, спасающего молчаливым терпением и промедлением. Радоваться монашеству означает радоваться не молниеносным вмешательствам Промысла в нашу суету, не тому, что Бог может улучшить и увековечить мир сей, желающий пребывать комбинацией роддома с военкоматом, но радоваться Христу Воскресшему, Преобразившемуся и Вознесшемуся, готовящемуся воскресить, преобразить и вознести мир к Своему Отцу».
Монашество на Руси
В «Древнем Патерике» приводится такая притча. «Авва Макарий спросил авву Захария: скажи мне, какое дело монаха? Сей отвечал: тебе ли спрашивать меня, отец? На это авва Макарий сказал ему: на тебя мне указали, сын мой, Захария! Есть некто, желающий, чтоб я спросил тебя. Тогда авва Захария говорит ему: по мне, кто делает себе во всем принуждение, тот монах».А древний подвижник, автор знаменитого труда, наставляющего монашествующих, Иоанн Лествичник, сказал так: «Некоторые из имеющих дар рассуждения хорошо определили отвержение самого себя, сказав, что оно есть вражда на тело и брань противу чрева».
Понятно, зачем человеку, который «моно» (один, сам) или «инок» (иной, не такой, как все), требуется удалиться от мира сего - для общения с Богом, для спасений своей души, для моления обо всем мире, для которого тоже монах просит у Господа спасения. Вспомним Преподобного Серафима Саровского, весьма почитаемого в нашем народе: «Для сохранения мира душевного также всячески должно избегать осуждения других. Неосуждением и молчанием сохраняется мир душевный: когда в таком устроении бывает человек, то получает Божественные Откровения».
А протоиерей Серафим Слободской, автор наиболее читаемого ныне учебника Закона Божия, так говорит о православном монашестве: «Монашество (иночество) - духовное сословие подвижников уединения, целомудрия, послушания, нестяжательства , внутренней и внешней молитвы ».
В первые времена христианской Церкви почти все верующие вели чистую и святую жизнь, какую требует Евангелие. Но находились многие из верующих, которые искали высшего подвига. Одни добровольно отказывались от имущества и раздавали его бедным. Другие, по примеру Божией Матери, св. Иоанна Предтечи, апп. Павла, Иоанна и Иакова, принимали на себя обет девства, проводя время в непрестанной молитве, посте, воздержании и труде, хотя они не удалялись от мира и жили вместе со всеми. Такие люди назывались аскетами, т. е. подвижниками.
С третьего столетия, когда, вследствие быстрого распространения христианства, строгость жизни среди христиан постепенно ослабевает, подвижники удаляются жить в горы и пустыни и там, вдали от мира и его соблазнов ведут строгую подвижническую жизнь. Такие удалявшиеся от мира подвижники назывались отшельниками и пустынниками.
Так положено было начало монашеству, или, по-русски, иночеству, т.е. иному, удаленному от соблазнов мира, образу жизни.
Иноческая жизнь, или монашество, есть удел только немногих избранных, имеющих «призвание», т. е. непреодолимое внутреннее желание иноческой жизни, чтобы всецело посвятить себя на служение Богу. Как и сказал о том Сам Господь: «Кто может вместить, да вместит» (Мф. 19:12).
Святой Афанасий говорит: «Два суть чина и состояния в жизни: одно - обыкновенное и свойственное человеческой жизни, т. е. супружество; другое - ангельское и апостольское, выше которого быть не может, т. е. девство или состояние иноческое» .
Вступающие на путь иноческого жития должны иметь твердое решение «отречься от мира», т. е. отказаться от всех земных интересов, развивать в себе силы духовной жизни, во всем исполняя волю своих духовных руководителей, отказаться от своего имущества и даже от старого имени. Инок берет на себя добровольное мученичество: самоотречение, жизнь вдали от мира среди труда и лишений.
Монашество само по себе не является целью, но оно есть самое могущественное средство к достижению высшей духовной жизни. Цель иночества есть приобретение нравственной духовной силы для спасения души.
Иночество есть величайший подвиг духовного служения миру, оно охраняет мир, молится за мир, духовно окормляет его и предстательствует за него, т. е. совершает подвиг молитвенного заступничества за мир.
Преподобный Антоний Великий, древний египетский подвижник, был основателем отшельнического иночества, которое состояло в том, что каждый инок жил отдельно друг от друга в хижине или в пещере, предаваясь посту, молитве и трудам на пользу свою и бедных (плели корзины, циновки и пр.). Но все они находились под руководством одного начальника или наставника - аввы (что значит «отец»).
Но еще при жизни Антония Великого появился другой род иноческой жизни. Подвижники собирались в одну общину, трудились каждый по своей силе и способностям на общую пользу и подчинялись одним правилам, одному порядку, так называемому уставу. Такие общины назывались киновиями или монастырями. Аввы монастырей стали называться игуменами и архимандритами. Основателем общежительного иночества считается преп. Пахомий Великий.
Из Египта иночество скоро распространилось в Азии, Палестине и Сирии, а потом перешло в Европу.
У нас на Руси иночество началось почти одновременно с принятием христианства. Основателями иночества на Руси были преподобные Антоний и Феодосий, жившие в Киево-Печерском монастыре, который стал центром монашеского движения в XI-XII вв. Монастырь этот начался с пещер («печер»), которые выкопал в песчаных берегах Днепра для своего отшельнического жития Антоний Печерский (983-1073).
Преподобный Антоний, родившийся на Черниговщине, а затем подвизавшися в духовном делании на Святой Горе Афон, возвратясь на Русь, хотя и положил начало монашеской общине, более тяготел к уединенному, аскетическому подвигу. Он оставался духовным наставником братии, а настоящим организатором монастыря, строящего свою жизнь по православному уставу - Типикону, стал Феодосий Печерский (1036-1091). Эти два инока были первыми в чреде русских преподобных - монахов, признанных Церковью святыми.
Каждый монастырь имеет свой распорядок жизни, свои правила, т. е. свой монастырский устав. Все монахи должны обязательно выполнять различные работы, которые по монастырскому уставу называются послушаниями.
Монашество могут принимать не только мужчины, но и женщины - с такими же точно правилами, как и у монахов. С древности существуют женские монастыри.
Желающие вступить в иноческую жизнь должны прежде испытать свои силы (пройти искус) и тогда уже дать невозвратные обеты.
Люди, проходящие предварительные испытания, называются послушниками. Если они в течение долгого испытания оказываются способными стать монахами, то их облекают в неполное одеяние инока, с установленными молитвами, что называется рясофором, т. е. правом ношения рясы и камилавки, чтобы, в ожидании полного иночества, они еще больше утверждались на избранном пути. Послушник после этого называется рясофорным.
Самое иночество заключает в себе две степени, малый и великий образ (образ ангельского жития), которые по-гречески называются «малая схима» и «великая схима».
При вступлении в самое иночество над монахом совершается исследование малой схимы, в которой монах дает обеты иночества и ему дается новое имя. Когда наступает момент пострижения, монах трижды дает игумену ножницы в утверждение своего твердого решения. Когда игумен в третий раз принимает из рук постригаемого ножницы, то он, с благодарением Богу, постригает крестообразно волосы ему, во имя Пресвятой Троицы, посвящая его этим всецело на служение Богу.
На принявшего малую схиму надевают параманд (греч.: небольшой четырехугольный плат с изображением Креста Господня и орудий Его страданий), подрясник и пояс; затем постригаемый покрывается мантией - длинным плащом без рукавов. На голову надевается клобук, так называется камилавка с длинным покрывалом - наметкой. В руки даются четки - шнурок с нанизанными на него шариками для подсчета молитв и поклонов. Все эти одежды имеют символическое значение и напоминают монаху о его обетах.
В заключение обряда даются в руки ново-постриженному крест и свеча, с которыми он стоит всю литургию до самого Св. Причастия.
Монахи, принимающие великую схиму, дают еще более строгие обеты. Им еще раз меняют имя. В облачении также есть изменения: вместо параманда надевают аналав (особый плат с крестами), на голову, вместо клобука,- куколь, покрывающий голову и плечи.
У нас принято называть схимниками исключительно только тех иноков, которые пострижены в великую схиму.
Если монах поставляется в игумены, то ему дается жезл (посох). Жезл есть знак власти над подчиненными, знак законного управления братией (монахами). Когда игумен возводится в архимандриты, на него надевают мантию со скрижалями. Скрижалями называются четырехугольники из материи красного или зеленого цвета, нашитые на мантию спереди, два наверху и два внизу. Они означают, что архимандрит руководит братией по заповедям Божиим. Кроме того, архимандрит получает еще палицу и митру. Обычно из архимандритов поставляются на высшую степень священства - в епископы.
Многие из монашествующих были истинными ангелами во плоти, сияющими светильниками Церкви Христовой.
Несмотря на то что иноки удаляются из мира для достижения высшего нравственного совершенства, иночество имеет великое благотворное влияние на живущих в мире.
Помогая духовным нуждам ближних, иноки не отказывались, когда имели возможность, служить и временным их нуждам. Добывая себе трудами пропитание, они делились средствами пропитания с неимущими. При монастырях были странноприимницы, где иноки принимали, питали и покоили странников. Из монастырей часто рассылались милостыни и по другим местам: томившимся в темнице узникам, бедствовавшим во время голода и от других несчастий.
Но главная неоценимая заслуга иноков для общества состоит в непрестанной творимой ими молитве о Церкви, об Отечестве, о живых и умерших.
Святитель Феофан Затворник сказал: «Иноки - это жертва Богу от общества, которое, предавая их Богу, из них составляет себе ограду. В монастырях в особенности процветает священно-служение чинное, полнейшее, продолжительнейшее. Церковь является здесь во всей красоте своего облачения». Поистине, в монастыре - неиссякаемый источник назидания для мирян.
В Средние века монастыри имели большое значение как центры наук и распространители просвещения.
Наличие в стране монастырей есть выражение крепости и силы религиозно-нравственного духа народного.
Русский народ любил монастыри. Когда возникал новый монастырь, русские люди начинали селиться около него, образовывая поселок, который вырастал иногда в большой город.
Интернет-ресурс «Мир Православия» рассказывает, что чем глубже православие проникало в быт Руси, влияя на формирование обязательных обрядов и ритуалов, тем неизбежнее становился обычный для любого общества и любой эпохи разрыв между внешними знаками благочестия и содержанием веры. И тем более в Русской Церкви возрастало значение монашества - средоточия «христианского максимализма» в вере и жизни.
Иноки и священноиноки (монахи, имеющие сан священника) с самого начала заняли особое положение в русском духовенстве. Так называемое белое духовенство - женатые священники и диаконы - жили во многом общей с мирянами жизнью: занимались хозяйством, воспитывали детей.
Жизнь иночества для новокрещеной Руси была поистине иной - ошеломляюще загадочной, ломающей все привычные представления о жизненных ценностях. Монашество существовало «не в миру», и потому только оно виделось по-настоящему отделенным от мира, святым и могло являть недоступный свет Царства Небесного. Само слово «святость» в славянских языках происходит от слова «свет». Монашеское состояние уже в Византии именовали «ангельским чином», подчеркивая тем самым отрешенность монашества от земных благ. Монахов неслучайно также называют «земными ангелами». На Руси прижилась и глубоко вошла в душу верующего человека пословица: «Свет инокам - ангелы, свет мирянам - иноки». Этот свет не заслоняли от мирян черные одежды монахов-чернецов, напоминающие об их «смерти для мира» с его грехами.
Иосифляне и нестяжатели
Для некоторых еретических течений на Руси были характерны антимонашеские настроения. Причина подобных настроений заключалась в том, что многие монастыри были крупными землевладельцами и государство не раз пыталось пополнить пустующую казну за счет монастырского имущества. Такие настроения отягчали разногласия между двумя внутрицерковными течениями XV-XVI вв. - иосифлянами и нестяжателями. Ведущими представителями этих направлений в Русской Церкви были выдающиеся иноки, впоследствии канонизированные как святые,- преподобные Иосиф Волоцкий (1439-1515) и Нил Сорский (ок. 1433-1508).Иосифляне отнюдь не были сторонниками личного обогащения. Они защищали право монастырей владеть землями и крупной собственностью. В имущественных правах монастырей они видели залог их действенного общественного служения: помощь беднякам, голодающим, больным, выполнение просветительских задач, гарантию высокого общественного положения Церкви, возможность содействовать устроению православного государства. Игумен Волоколамского монастыря Иосиф, признанный глава иосифлян, делом подкреплял свои идейные позиции: во время голода в окрестных районах он распорядился кормить голодающих, устроил в монастыре приют для сирот.
А нестяжатели полагали, что монахи должны кормить себя только собственным трудом, и выступали против монастырских имений, которые в то время составляли немалую часть всех государственных территорий. По мнению нестяжателей, владение имуществом разлагало монашество, отвлекало иноков от духовного подвига. За каждой из сторон в этом споре стояла своя правда. Идеи иосифлян, доведенные до крайности, означали, что обогащение монастырей становилось самоцелью, а помощь, оказываемая государственной властью, оборачивалась пресмыкательством перед ней и оправдывала любые ее действия. В свою очередь, крайнее нестяжательство обрекало Церковь на бедность, а значит, на необразованность, и закрывало перед ней путь активного общественного служения. К тому же авторитет наиболее известных нестяжателей (в основном это были «заволжские старцы» - монахи маленьких бедных монастырей-скитов Заволжья) использовали вожди ересей, искавшие у них защиты от преследования со стороны государства, а также те государственные деятели, которые стремились контролировать церковное имущество. Исторически победу в этом споре одержали иосифляне, поддержанные государственной властью.
Исихазм
По выражению одного современного православного богослова, если монашество является средоточием православной духовности, то исихазм - самое ядро этого средоточия.Слово «исихазм» (от греч. «исихия» - «покой», «безмолвие») имеет много значений. В широком смысле оно подразумевает особые стороны православного мировоззрения и вероучения - те, что связаны с представлением об «обожении» подвижника-христианина уже в земной жизни, с идеей видения Божественного Света в глубине собственного сердца. «Обожение» достигается не просто личными усилиями человека или божественным даром, но согласным движением человеческой воли и воли Бога.
Исихастами обычно называют монахов-подвижников, которые применяют особые приемы «умного делания» - молитвы как внутренней духовной работы. Она совершается безмолвно и бессловесно, «умом» - в глубинах человеческой души.
Такая молитвенная практика, очень древняя, получила особую известность в XIII-XIV вв. благодаря инокам Святой Горы Афон. Наиболее полное богословское обоснование исихазму дал святитель Григорий Палама (1296-1359), митрополит Фессалоникийский. Он учил, что, хотя сущность Бога непознаваема, Божество можно непосредственно созерцать и познавать благодаря присутствию в мире нетварных (т. е. несотворенных, существующих вечно) божественных энергий. Существует множество видов этих энергий, но в любой из них таинственным образом полностью присутствует Бог Живой: человеческие понятия «целое» и «часть» к Нему неприменимы. В церковных таинствах христианин в той или иной мере усваивает эти энергии. Их и видит «внутренними очами» подвижник как Фаворский свет - тот самый, который видели ученики Иисуса Христа при Его преображении на горе Фавор.
Великие молитвенники-исихасты неоднократно предупреждали: гордыня и самомнение, небрежение наставлениями Церкви неизбежно приводит к тому, что силы зла обманывают подвизающегося в «умном делании» ложным светом, который он принимает за Божественный. Князь тьмы легко прикидывается Ангелом Света, чтобы подчинить себе человеческую душу, сделать ее своим орудием. Современные православные богословы считают, что подобное происходит с тем, кто практикует восточные системы дыхательно-медитативных упражнений: приводя свое сознание в особое состояние, он, в лучшем случае, «видит» тот тварный свет, который изначально присутствовал и присутствует в Божием творении, но отнюдь не сами божественные энергии. Монахи-исихасты тоже используют особые приемы дыхания и позы, которые способствуют молитвенному сосредоточению. Но они знают, что никакие человеческие действия не приведут к видению Бога, если того не пожелает Сам Бог, а опытные духовные наставники учат их отличать Истинный Свет от ложного.
Исихазм пронизывает всю историю православия. Присущие ему идеи и устремления прослеживаются уже в творениях отцов Церкви первого тысячелетия. Они оказали огромное влияние и на духовную жизнь Русской Православной Церкви: видением Фаворского света, верой в реальность богообщения и обожения человека проникнуты иконопись преподобного Андрея Рублева, деяния Преподобного Сергия Радонежского, поучения преподобных Нила Сорского, Паисия Величковского, Серафима Саровского, старцев Оптиной Пустыни.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Реферат по истории
на тему: «Зарождение монастырей на Руси и
особенности русского монашества»
Введение
1. Предыстория русского монашества
2. Появление первых монастырей в Киевской Руси
3. Печерский монастырь и преподобный Феодосий
4. Особенности русского православного монашества
Заключение
Список используемой литературы
Приложение
Введение
Монашество широко распространилось в Русской Церкви вследствие того, что с самого начала аскетическое учение христианства нашло живой отклик в душах новообращенных русских людей. Монашество очень быстро приобрело на Руси особое значение еще и потому, что оно несло народу образование и культуру, очагами которой становились монастыри. Помимо исполнения своей чисто церковной миссии, монастыри оказывались вовлеченными в национально-политическую и культурную жизнь страны. Представители монашества находились в живом и почти непрерывном общении с миром. Это не прошло бесследно для внутреннего развития монастырского уклада. Взаимоотношения между государством и Церковью на Руси всегда имели исключительное значение, и эти взаимоотношения постоянно так или иначе отражались на жизни монашества, на его воззрениях, зачастую вовлекая духовные силы иночества в такие движения, которые не соответствовали монашескому идеалу.
Период до 1503 г. в истории русского монашества -- это целостная эпоха как во внутренней, так и во внешней истории монашества, которую нельзя разделить на периоды; начало и расцвет этой эпохи сливаются в единое целое, которое мы назвали первым периодом в истории русского монашества. православный монашество исторический
После 1503 г. монашество вступает во второй период, за время которого оно претерпевает сильное обмирщение. Рубежом третьего, и последнего, периода является начало XVIII в., эпоха реформ Петра Великого.
В данной работе я постараюсь представить и охарактеризовать истоки зарождения монашества на Руси и его ос особенности.
1. Предыстория русского монашества
Древнерусское христианство -- это греко-православное христианство. Пришло оно на Русь из Византии; приняв его, Русь включилась в религиозно-культурный мир Восточной Церкви. Церковная жизнь на Руси складывалась в тесной взаимосвязи с развитием духовной культуры Восточной Церкви, особенно в ее византийском выражении.
Становление государственности протекало у восточных славян в VI-IX вв., завершилось оно созданием Киевского государства. В эту эпоху славяне поддерживали хозяйственные связи с Северным Причерноморьем, с Крымом и Константинополем. Вся Черноморская область уже с I столетия была ареной христианской проповеди. К IV в. относятся первые исторические свидетельства о греческих епископах в Крыму. Христианская проповедь Византийской Церкви достигла и восточных славян. Сейчас уже совершенно неопровержимо доказано, что христианство проникло в Киевское государство задолго до обращения князя Владимира (988/89).
Поместная Русская Церковь получила от Константинопольской патриархии -- своей Матери Церкви -- учение, каноны и устав. Ее богослужебным языком стал церковнославянский, плод великих трудов св. апостолов славян Кирилла и Мефодия,-- язык, которым Византийская Церковь уже в течение столетия пользовалась для своей проповеди среди славян.
Монашество занимало тогда в жизни Восточной Церкви особое место. Появившись на Руси, оно встретило у народа вполне благожелательное отношение, быстро распространилось по стране и оказывало значительное влияние на церковные дела, да и на многие другие сферы древнерусской жизни, на государственность и культуру. Причины этого коренятся в истории восточного монашества, и в особенности в том, что, как мы знаем теперь, иночество проникло на Русь до официального принятия ею христианства и долго служило примером истинного христианского благочестия.
В пору обращения Руси, в канун X в., монашество Восточной Церкви приобрело уже законченные черты.
При своем зарождении монашество отличалось особым аскетизмом. Великий сонм древнеегипетских анахоретов, в котором самыми яркими звездами сияют св. Антоний († 356), св. Макарий († 390) и св. Пахомий († 348), обрел в лице последнего «начальника египетской киновии». Братия, собравшаяся вокруг Пахомия, образовала первый христианский монастырь; возник он в Тавенне, возле Фив, в 318 или 320 г. Его устав стал основой общежительного аскетизма. В становлении и развитии монашеского общежития, в точном определении его сущности и основных черт особая заслуга принадлежит св. Василию Великому († 379). Его аскетические творения, написанные для монашеских общин Каппадокии, содержат в себе богословское и пастырское обоснование киновии.
Палестинские обители, в которых первоначальниками киновии были Иларион Газский († 371) и Харитон Великий († 350), превратились в своего рода общежительные монастыри, получившие наименование «лавр». Евфимий Великий († 473), Феодосий Киновиарх († 529) и в особенности св. игумен Савва († 532), составитель монастырского устава -- «Типикона св. Саввы», сыгравшего впоследствии чрезвычайно важную роль в литургической жизни Восточной Церкви, были основателями монашеского общежития, которое в Палестине имело свои особые местные черты. Образы великих сирийцев Ефрема и Исаака, Иоанна Лествичника и Симеона Столпника говорят о необычайной высоте, на которую взошло там иноческое отречение от мира.
В течение IV-VI вв. восточное монашество стало играть чрезвычайно важную роль в жизни Церкви; В VIII-IX вв. значение монашества выросло еще больше. Оно нашло в себе силы вступить в борьбу против иерархии и императорской власти. Известно, что в судьбоносной для Церкви борьбе за почитание святых икон именно монашество обеспечило торжество иконопочитания. В этой славной борьбе монашество обрело своего великого вождя, который на все времена остался в самом средоточии истории восточного иночества. Это был Феодор Студит († 826). Он был одним из главных созидателей самой монашеской организации, а также творцом монастырского устава, известного под наименованием «Студийского», подлинник которого, к сожалению, утрачен для церковно-исторической науки.
После поражения иконоборчества (первая фаза его продолжалась с 726 по 780 г., а вторая с 802 по 842 г.) монашество вступило в самый блистательный период своей истории. Возрастает число обителей; влияние монахов становится настолько сильным, что современники называли Византию «царством монахов», а свое время -- «эпохой монашеской славы». Для русского иночества, для обретения им своего особого места в жизни Церкви расцвет византийского монашества имел чрезвычайно важные последствия. Эхо иконоборчества и роль, которую сыграли монахи в его преодолении, в пору Крещения Руси были еще живым воспоминанием. И мы, обозревая историю русского благочестия, не должны удивляться тому великому почитанию, которым окружены были в религиозном сознании древнерусского человека святые иконы и «равноангельный чин» монахов. В истории становления древнерусского монашества можно увидеть связь с событиями иконоборческой эпохи,-- связь не внешнюю, но внутреннюю, духовную.
Уже при первой вспышке иконоборчества многие исповедники православия бежали в Таврию и Крым. Пещеры, которых так много в Крымских горах, могли быть первыми кельями для этих беженцев. В житии св. Стефана, архиепископа Сугдейского (Сурожского, † около 750 г.), много потрудившегося для просвещения язычников в Крыму, мы обнаруживаем новые свидетельства того, что тогда здесь было много поборников почитания икон; вполне возможно, что именно монахи, бежавшие из Византии, принесли с собой в Южную Русь усердное почитание икон. После прибытия на полуостров монашеская братия очень скоро освоилась и умножилась числом.
Для нас важно также то обстоятельство, что пещеры, обжитые людьми и похожие на монастыри, обнаружены не только в Крыму. Археологические находки VIII и IX вв. в верховьях Дона (у реки Тихая Сосна, притока Дона, вблизи городов Коротояка и Острогожска) свидетельствуют о христианских катакомбах -- пещерах, которые, по мнению ученых, не что иное, как руины монастырей. Распространяясь на северо-запад, христианская проповедь достигла Киева. Уже во 2-й половине X в., при князе Святославе († 972), когда страна и народ приобрели черты государственно-политической организации, христианство проникло на княжеский двор: княгиня Ольга, мать киевского князя, была крещена в Константинополе (около 957 г.).
Известно, что христиане жили в Киеве еще до Крещения Руси и что у них был свой храм -- церковь св. Илии; это видно из договора между Киевом и Византией от 944/45 г. Среди этих христиан, несомненно, были подвижники, которые вели благочестивую, строго аскетическую жизнь. Но внешних следов, которые бы указывали на монастырские строения или нечто подобное, обнаружить пока не удалось.
2. Появление первых монастырей в Киевской Руси
В древнейших русских источниках первые упоминания о монахах и монастырях на Руси относятся лишь к эпохе после крещения князя Владимира; их появление датируется временем правления князя Ярослава (1019-1054). Современник его, Иларион, с 1051 г. Киевский митрополит, в своем знаменитом похвальном слове, посвященном памяти князя Владимира,-- «Слове о законе и благодати», которое он произнес между 1037 и 1043 гг., говорил, что уже во времена Владимира в Киеве «монастыреве на горах сташа, черноризцы явишася». Это можно объяснить так: вполне вероятно, что монастыри, которые упоминает Иларион, не были монастырями в собственном смысле, а просто христиане жили в отдельных хижинах вблизи церкви в строгой аскезе, собирались вместе на богослужение, но не имели еще монашеского устава, не давали иноческих обетов и не получали правильного пострижения.
Под тем же 1037 г. древнерусский летописец торжественным слогом повествует: «И при сем нача вера хрестьянска плодитися и раширяти, и черноризьци почаша множитися, и монастыреве починаху быти. И бе Ярослав любя церковныя уставы, попы любяше повелику, излиха же черноризьце». И дальше летописец сообщает, что Ярослав основал два монастыря: св. Георгия (Георгиевский) и св. Ирины (Ирининский женский монастырь) -- первые правильные монастыри в Киеве. Но это были так называемые ктиторские , или, лучше сказать, княжеские обители, ибо их ктитором был князь. Для Византии такие монастыри были обычным явлением, хотя и не преобладающим. Из позднейшей истории этих обителей видно, что древнерусские князья использовали свои ктиторские права на монастыри; особенно это сказывалось при поставлении новых настоятелей. Такие монастыри обыкновенно получали наименование по имени святого покровителя ктитора (христианское имя Ярослава -- Георгий, а Ирина -- имя святой покровительницы его супруги); эти обители становились потом родовыми монастырями, они получали от ктиторов деньги и другие дары и служили им семейными усыпальницами. Почти все обители, основанные в домонгольскую эпоху, то есть до середины XIII в., были именно княжескими, или ктиторскими, монастырями.
Совершенно иное начало было у знаменитой киевской пещерной обители -- Печерского монастыря. Он возник из чисто аскетических устремлений отдельных лиц из простого народа и прославился не знатностью ктиторов и не богатствами своими, а той любовью, которую снискал у современников благодаря аскетическим подвигам своих насельников. В истории его основания осталось много неясного. Опираясь на различные научные разыскания, можно представить эту историю следующим образом.
Об основании пещерного монастыря летописец повествует под 1051 г., в связи с рассказом о возведении на митрополичью кафедру священника церкви в Берестове (село к юго-западу от Киева, находившееся во владении Ярослава). Звали его Иларионом, и был он, как свидетельствует летопись, «муж благ, книжен и постник». Жизнь в Берестове, где князь обычно проводил большую часть времени, была неспокойной и шумной, ибо там пребывала и княжеская дружина, поэтому священник, стремясь к духовным подвигам, вынужден был искать уединенного места, где бы он мог молиться в удалении от суеты. На лесистом холме на правом берегу Днепра, к югу от Киева, он вырыл себе маленькую пещерку, которая и стала местом его аскетических бдений. Этого благочестивого пресвитера Ярослав выбрал на вдовствовавшую тогда митрополичью кафедру и велел епископам хиротонисать его. Он был первым митрополитом русского происхождения. Новое послушание Илариона поглощало все его время, и теперь он лишь изредка мог приходить в свою пещерку. Но очень скоро у Илариона появился последователь.
Это был отшельник, который под именем Антония известен как основатель Печерского монастыря. В его жизни многое остается для нас неясным, сведения о нем отрывочны. Этот Антоний, уроженец города Любеча, близ Чернигова, имел сильное стремление к подвижничеству; он пришел в Киев, короткое время пожил там в пещерке Илариона, а потом отправился на юг. Как духовно-религиозный первоначальник обители и аскетический наставник братии на первом плане стоит не Антоний, а настоятель монастыря cв. Феодосий. Антоний принадлежит к тем подвижникам, которые подают яркий пример своей собственной жизнью, но не имеют призвания к наставничеству и учительству. После своего возвращения Антоний, как рассказывает житие, не удовлетворенный строем жизни в Киевском монастыре (это мог быть лишь монастырь св. Георгия), снова удалился в уединение -- в пещеру Илариона. Благочестие Антония снискало у верующих такое великое почитание, что сам князь Изяслав, сын и преемник Ярослава, приходил к нему за благословением.
Антоний недолго оставался в одиночестве. Уже между 1054 и 1058 гг. к нему пришел священник, который в Печерском патерике известен под именем Великого Никона (или Никона Великого). Существует мнение Приселкова, согласно которому Великий Никон был не кто иной, как митрополит Иларион, который в 1054 или 1055 г. по требованию из Константинополя был сведен с кафедры и заменен греком Ефремом. При этом Иларион, разумеется, сохранил свой священнический сан; он появляется уже как иерей, принявший великую схиму; при пострижении в схиму он, как и положено, переменил имя Иларион на Никон. Теперь в растущем монастыре деятельность его приобретает особый размах. Будучи священником, он, по желанию Антония, постригает послушников; он, как мы увидим позже, воплощал идею общенационального служения своего монастыря; потом он оставляет Печерскую обитель и после недолгой отлучки снова возвращается, становится настоятелем и умирает, прожив долгую, насыщенную событиями жизнь. Никон стоит в самом средоточии национально-культурных событий XI в., поскольку все они так или иначе были связаны с Печерским монастырем. Он представлял то древнерусское национально настроенное монашество, которое противилось как греческой иерархии, так и вмешательству киевских князей в жизнь Церкви.
Если с именем Великого Никона связан национально-культурный расцвет Печерского монастыря, то в личности св. Феодосия мы видим уже действительно духовного наставника и первоначальника русского монашества . Роль Феодосия несравнима с исторической ролью Антония. Феодосий пришел к Антонию в 1058 г. или несколько раньше. Благодаря суровости своих духовных подвигов Феодосий занял видное место среди братии обители. Не удивительно, что уже через четыре года он был избран настоятелем (1062). За это время число братии умножилось настолько, что Антоний и Варлаам (первый игумен монастыря) решили расширить пещеры. Число братии продолжало расти, и Антоний обратился к киевскому князю Изяславу с просьбой пожаловать обители землю над пещерами для строительства церкви. Монахи получили просимое, выстроили деревянную церковь, кельи и обнесли строения деревянным забором. В житии Феодосия эти события отнесены к 1062 г., и Нестор, составитель жития, связывает возведение наземных монастырских строений с началом настоятельства Феодосия. Важнейшим деянием Феодосия в первый период его игуменства было введение общежительного устава Студийского монастыря . Из жития Феодосия можно узнать, что он стремился к самому строгому исполнению братией иноческих обетов. Труды Феодосия заложили духовное основание Киево-Печерского монастыря и сделали из него на два столетия образцовую древнерусскую обитель.
Одновременно с расцветом Печерского монастыря появляются новые обители в Киеве и в других городах. В Киеве уже тогда был монастырь св. Мины . О том, как и когда возник этот монастырь, нет точных сведений. Возможно, что такого монастыря и вовсе не было в Киеве, а просто там жил черноризец-болгарин из византийского или болгарского монастыря св. Мины, ушедший вместе с Никоном из Киева. Никон оставил город, чтобы избежать княжеского гнева, и направился на юго-восток. Он пришел на берег Азовского моря и остановился в городе Тмутаракани, где правил князь Глеб Ростиславич, внук князя Ярослава (до 1064 г.). В Тмутаракани, которая у византийцев известна была под именем Таматарха, Никон между 1061 и 1067 гг. основал монастырь в честь Божией Матери и оставался в нем до 1068 г., до своего возвращения в Киев, в Печерский монастырь, где с 1077/78 по 1088 г. он подвизался уже как настоятель.
Димитриевский монастырь основан был в Киеве в 1061/62 г. князем Изяславом. Для управления им Изяслав пригласил настоятеля Печерского монастыря. Соперник Изяслава в борьбе за Киев, князь Всеволод, в свою очередь тоже основал монастырь -- Михайловский Выдубицкий и в 1070 г. велел построить в нем каменную церковь. Через два года в Киеве возникли еще две обители. Спасский Берестовский монастырь , вероятно, был основан Германом, ставшим впоследствии Новгородским владыкой (1078-1096),-- в источниках этот монастырь часто называют «Германичем». Другой, Кловский Влахернский монастырь, называвшийся также «Стефаничем», был основан Стефаном, настоятелем Печерского монастыря (1074-1077/78) и епископом Владимира-Волынского (1090-1094), просуществовал он до разрушения Киева татарами.
Таким образом, эти десятилетия были временем бурного монастырского строительства. С XI до середины XIII в. возникло и много других обителей. Голубинский насчитывает в одном Киеве до 17 монастырей.
В XI в. строятся монастыри и вне Киева. Мы уже упоминали монастырь в Тмутаракани. Монастыри появляются также в Переяславле (1072-1074), в Чернигове (1074), в Суздале (1096). Особенно много обителей строилось в Новгороде, где в XII-XIII вв. тоже насчитывалось до 17 монастырей. Самыми значительными среди них были Антониев (1117) и Хутынский (1192), основанный св. Варлаамом Хутынским. Как правило, это были княжеские, или ктиторские, монастыри. Каждый князь стремился иметь в своем стольном граде монастырь, поэтому в столицах всех княжеств строятся монастыри -- мужские и женские. Ктиторами некоторых из них были епископы. Всего до середины XIII в. на Руси можно насчитать до 70 обителей, расположенных в городах или их окрестностях.
Топографически монастыри располагались на важнейших торговых и водных путях Древней Руси, в городах по Днепру, в Киеве и вокруг него, в Новгороде и Смоленске. С середины XII в. появляются монастыри в Ростово-Суздальской земле -- во Владимире-на-Клязьме и Суздале. Ко 2-й половине этого века мы можем отнести первые шаги в монастырской колонизации Заволжья, где в основном строились маленькие скиты и пустыньки. Колонизация осуществлялась выходцами из Ростово-Суздальской земли, постепенно продвигавшимися в сторону Вологды. Сам город Вологда возник как поселение около основанной св. Герасимом († 1178) обители в честь Святой Троицы . Далее монастырская колонизация устремлялась на северо-восток, в направлении к месту впадения реки Юг в Сухону.
Первые шаги монастырской колонизации к северу от Волги, в так называемом Заволжье, впоследствии, во 2-й половине XIII и в XIV в., переросли в великое движение, которое усеяло скитами и пустынями огромную область от Волги до Белого моря (Поморья) и до Уральских гор.
3. Печерский монастырь и преподобный Феодосий
Св. Феодосий снискал почитание и любовь уже у своих современников, ибо он поистине был «первоначальником общежития на Руси». Его житие и Патерик Печерского монастыря -- главные источники, знакомящие нас с деятельностью этой выдающейся личности и с его влиянием на учеников. Патерик ценен тем, что он помогает составить целостное представление о древнерусском монашестве XI-XII вв., и в особенности о внутренней жизни монастырей в ту пору.
Еще важнее житие св. Феодосия. Его составителем был черноризец Печерского монастыря по имени Нестор; он написал житие в конце 80-х гг. XI в., когда настоятелем монастыря был Великий Никон -- то есть примерно через 15 лет после кончины святого игумена, так что еще были живы многие из братии, знавшие его при жизни. Именно поэтому в житии нет ничего легендарного. Образ Феодосия наделен специфическими чертами русского подвижника, которые не вполне соответствуют раннехристианскому идеалу инока. Феодосий не только ревностно стремился совершенствовать свою душу и, отрешившись от всего внешнего, превратить земную жизнь в небесное жительство, но он стремился и к воздействию на мир.
Религиозно-социальные и культурные связи монастырей с внешним миром позволили Л. К. Гётцу назвать Печерский монастырь «культурным центром домонгольской Руси» и дали ему повод говорить об отклонении монастыря от «первоначального идеала монашества, которое знает лишь религиозную жизнь вне мира, лишь аскезу и главным делом которого было спасение собственной души монаха». Это утверждение нельзя, однако, распространять на все тогдашнее иночество. В Печерском патерике соединяются два разных аскетических идеала: рядом со св. Феодосием или Николой Святошей мы находим образы подвижников, предававшихся самой изощренной аскезе и совершенному отречению от мирских забот.
Наличие двух типов подвижничества говорит о том, что монашество переживало тогда пору своего становления. Св. Феодосий стал начальником и наставником национально-русского подвижничества, и в более поздние времена черты его благочестия можно увидеть в облике древнерусского инока.
Феодосий был еще юношей, когда пришел в пещеру Антония, но ему уже пришлось выдержать долгую борьбу, чтобы получить от матери, не одобрявшей его склонности к иночеству, благословение на пострижение в монахи. Антоний принял беглеца из мира (около 1058 г.), и юный послушник своим смирением и терпением, своей духовной настроенностью вскоре приобрел любовь этого старца-отшельника, который велел Великому Никону постричь его. Молодой инок скоро снискал любовь и у братии; после перевода, по воле великого князя, игумена Варлаама настоятелем в новооснованный монастырь св. Димитрия, Феодосий на пятом году своего пребывания в монастыре избирается игуменом и, по благословению Антония, берет на себя это тяжкое послушание.
Многое говорит за то, что Печерский монастырь, как и другие киевские обители, возникшие до него, в первые годы своего существования строил свою жизнь на основе «Устава Великой церкви», то есть на основе богослужебного устава храма Святой Софии и других константинопольских церквей. Но этот Типикон был мало пригоден для устройства монастырской жизни, ибо в нем содержались лишь богослужебные правила. Возможно, что новый настоятель знал о существовании монастырского устава св. Феодора Студита. Как сообщает его житие, св. Феодосий послал в Константинополь одного инока к монаху Ефрему, чтобы получить от него список Студийского устава. Феодосий, однако, получил устав в позднейшей обработке, выполненной Алексием, патриархом Константинопольским (1025-1043). У нас есть только краткое изложение его, составленное в Студийской обители вскоре после кончины великого Студита. Здесь содержатся лишь некоторые богослужебные указания, идущие от самого Алексия, и самые общие правила постов и монашеской жизни вообще.
Но Феодосию важнее всего было соблюсти основу устава -- принцип строгого общежития, который он и проводил в жизнь во все время своего настоятельства. Он, сам подвизаясь непрестанно -- «in manibus opus, in ore psalmus» (в руках работа, в устах молитва),-- требовал того же и от вверенной его попечению братии. Повествование Нестора показывает нам и многосторонний пастырский дар Феодосия, и его ревностное стремление к неукоснительному соблюдению принципа общежительства. Он не поощрял изощренной или чрезмерно суровой аскезы, характерной для сирийских отцов, ибо понимал, что такая аскеза не может стать общей основой монастырской киновии; в особенности это было невозможно в ту пору, когда иночество делало на Руси свои первые шаги и еще должно было пройти долгий и трудный путь, чтобы стать со временем подлинным примером христианского благочестия, идеалом для мира. Это не значит, конечно, что св. Феодосий отвергал высшие ступени аскезы. Он хорошо знал, что только они дают духовный опыт и способность к духовному руководству, что для настоятеля они являются единственным источником силы, необходимой для воздействия на братию. Сам он усердно подвизался, но в смирении своем не любил, чтобы о его подвигах знала братия и вообще современники. Лишь в юности он носил вериги. Молитва, смирение, пост заполняют его жизнь; свой игуменский сан он несет с величайшим смирением, его бедное одеяние показывает братии и великим мира сего, что бедность украшает христианина; он всегда в посте: сухой хлеб, редко овощи без масла -- вот и все его пропитание, но лицо его всегда радостно; свое аскетическое делание он совершает в ночи; весь день он посвящает работе; он печется о братии, но руководит ею без чрезмерной суровости; воспитывает ее больше своим примером, чем словами, а поучает притчами; провинившихся он увещевает с любовью и кроткой строгостью. Чудеса св. Феодосия -- его дар пророчества -- представлены в житии как следствие его аскетических добродетелей. Эти чудеса большей частью относились к сношению иноков с миром, лежащим за монастырской стеной, ибо они, с одной стороны, подчеркивали значение милостыни мирян для монастырской жизни, а с другой -- укрепляли у мирян уважение к христианским добродетелям иночества.
Житие дает нам ряд примеров служения св. Феодосия ближним, так что его можно считать первоначальником социально-христианского служения миру. Монах Нестор называет его заступником вдовиц, сирых и убогих. Его подвиги напоминают нам о палестинском иночестве. Вскоре влияние Феодосия достигло киевского княжеского двора, где он был в большой чести благодаря своим прозорливым советам; это явно выразилось в его споре с князем Святославом, в котором он победил: своевольному князю пришлось склониться перед духовной властью будущего святого.
Феодосий проповедовал и в кругу монастырской братии; его поучения затрагивали основные принципы иноческого жития, но он не давал в них наставлений о том, как делать те или иные аскетические упражнения. Суждения Феодосия о разных случаях повседневного монастырского быта выражены в оставшихся после него пяти поучениях для монахов, принадлежность которых святому не вызывает сомнений. В основу своей системы пастырского воспитания Феодосий кладет ревностное стремление к совершенствованию. Главную цель монашеской жизни своего времени он видит в смирении и терпении, в молитве и любви к братиям. Но он не требовал от монахов чрезмерно трудных внешних аскетических подвигов. Для святого игумена было ясно, что от первого поколения иноков нельзя сразу требовать слишком многого. Эти поучения свидетельствуют о том, как медленно и постепенно утверждалось христианско-аскетическое мировоззрение, и о том, что всякое ужесточение требований могло бы только повредить монастырской жизни. Для развития древнерусского иночества было чрезвычайно важно, что у Феодосия аскетические требования шли рука об руку с практическими пастырскими задачами, ибо только так могло монастырское общежитие удержаться на определенной высоте. Монах Печерской обители во времена Феодосия проводил день в молитве и рукоделии. Из жития Феодосия можно узнать, что в монастыре ежедневно служились утреня, часы и литургия. Промежутки между богослужениями монахи посвящали рукоделию; они плели лапти и шляпы, которые потом продавали в городе, чтобы на вырученные деньги закупить зерно для обители. Это зерно монахи сами мололи и сами пекли из него хлеб. Весной и летом братия работала в монастырском огороде. Еда была простой и скудной: в будние дни пища состояла в основном из хлеба и воды, лишь в субботу и воскресенье, когда по уставу дозволяется разрешение поста, для братии варилась каша или овсяный суп. Но часто у братии не было ни каши, ни даже хлеба. Ели все вместе в трапезной, и Феодосий строго запрещал брать с собой в кельи какую-нибудь пищу, кроме сухого хлеба. Особенно сурово постились в Четыредесятницу и в Страстную седмицу.
Лучше всего дух феодосиевского общежития выразился в истории Николы Святоши, которая вошла в Печерский патерик. Никола Святоша -- это князь Святослав Давыдович Черниговский, правнук великого князя Ярослава. В 1106 г. он вступил в число братии Печерского монастыря. О его аскетическом житии Патерик повествует особенно торжественным слогом. Исполненный смирения, Никола Святоша не чурался монастырских работ, которые выполняет простой послушник: вначале он три года проработал на кухне, откуда выходил только в храм на богослужение, затем еще три года был монастырским привратником, потом прислуживал другим монахам в трапезной. Лишь после многолетнего трудового послушания он, по благословению игумена, выстроил себе маленькую келью. Современники рассказывали, что Святоша никогда не оставался в ней без дела: в руках у него постоянно была какая-нибудь работа; он сам себе соткал монашескую рясу из особо грубой пряжи. Иисусова молитва («Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго») не сходила с его уст -- в русскую агиографию Никола Святоша вошел как первый делатель непрестанной Иисусовой молитвы. 36 лет подвизался он в монастыре и преставился в 1142/43 г. Его брат князь Изяслав Давыдович возложением на себя рубашки Николы Святоши исцелился от тяжелого недуга. При вступлении в Печерский монастырь Никола все свое княжеское достояние раздал нищим. Житие св. Феодосия дает нам множество примеров того, как велико было уважение к нему и в монастыре, и в Киеве. В своей борьбе за воплощение в жизнь христианского идеала он не делал различия между великими и малыми, между богатыми и бедными. Дух социальной справедливости и внутреннего единства людей в тех условиях способствовал христианизации общества. Особенно убедительно должна была действовать на общество христианская стойкость игумена, проявившаяся во время тяжелой и длительной ссоры со Святославом, который, попирая справедливость, изгнал из Киева своего старшего брата, великого князя Изяслава. Печерский монастырь и его братия оказались в немилости у своевольного князя; Великий Никон во второй раз покинул монастырь и на несколько лет ушел в Тмутаракань, в основанную им прежде обитель. Лишь Феодосий не выказал страха и убедил князя в его неправоте.
4. Особенности русского православного монашества
Как было уже отмечено, изначально монашество зарождалось вне церкви и представляло собой одну из религиозных форм жизни мирян, но по истечении времени ситуация менялась. Так, на Западе монашество рано вызвало оппозицию Церкви, чего не было на Востоке, уже в V веке подвижничество монахов представлялось для церковных иерархов сомнительным, так как свою высшую цель Церковь видела в спасении мира, но не в отречении от него. Согласно канонам Халкидонского собора 451 года , монашество превратилось в институт публичного и церковного права. Собор предписывал основание монастыря только с согласия епископа, которому монахи должны были пожизненно подчиняться. Так монашество стало частью церковной организации. И католические монастыри все более интегрировались в структуру церкви, совмещая в себе созерцательную направленность с деятельностно-преобразовательной, некоторые из них, впрочем, со временем, полностью посвящали себя либо делам милосердия, либо миссионерству, либо военному делу. В их числе можно назвать орден госпитальеров святого Антония, орден иерусалимских госпитальеров, французский рыцарский орден тамплиеров, немецкий тевтонский орден. Тем не менее, несмотря на постановления Халкидонского собора, начиная с Пахомия Великого, известны случаи объединения христиан вокруг харизматической личности за пределами Церкви.
Сложились определенные различия относительно ключевых принципов, ведущих к конечной цели -- союзу с Богом. Думается, связаны они, во многом, с реформой Бенедикта Нурсийского (480-543), считающегося отцом западного монашества. Устав, который появился в основанном им монастыре, помимо установления устройства монастырского общежития и наказания трех обычных монашеских обетов, содержит множество постановлений относительно монастырского труда и чтения. В итоге путь к Богу через научную деятельность стал для многих католиков ведущим. В восточном христианстве обет послушания по-прежнему является ключевым, «превыше поста и молитвы».
Безусловно, данные различия связаны не только с фигурой Бенедикта. Да и различий в процессе становления восточного и западного института монашества выявлено гораздо больше. По мнению православного философа С. Булгакова, каждая из ветвей наделена своим даром: католическая -- даром власти и организации , православная -- видением «умной красоты духовного мира», протестантская - этическим даром интеллектуальной и жизненной честности . B.C. Соловьев в работе «Великий спор и христианская политика» также видит в западной культуре практичность, «утверждающую деятельность человека», а на Востоке - созерцание, «пассивную преданность божеству». Вспомним, уход от мира начался на Востоке, из западной истории можно привести пример св. Патрика, который чтобы упрочить в Ирландии христианство, основал там несколько монастырей, которые являлись своего рода «школами для народа.
Безусловно, образ жизни монашества обусловлен разницей культур Востока и Запада (умосозерцательный характер, мистицизм, коллективные формы хозяйственной деятельности и т.д. в противоположность активности античной культуры, Римскому праву, рационализму и т.д).
Если западный подвижник шел в «мир», и цель его миссионерской деятельности заключалась в проповеди Евангелия некрещеным и назидании слабоверующих, то восточный подвижник убегал от мира, думая, прежде всего, о спасении своей грешной души путем достижения духовного совершенства, любая другая деятельность была лишь следствием этой единственной цели -- спасения души. Православные монашествующие, сделавшие общение с Богом смыслом и целью бытия, словно уходили от видимого реального мира в некий внутренний мир и до конца дней занимались его совершенствованием. Искусство православного аскетизма целью имело не преображение действительности, но совершенствование души, «созерцательное видение» -- филокалию. Не «доброта», но «красота духовная» отличает православного подвижника - полагал выдающийся представитель Русской Православной Церкви П. Флоренский. Любовь к Богу, далёкая от деятельной любви к людям не могла обращаться вовне, на мир; растрачивать её в чувстве, мысли, поступке считалось греховным.
После крещения Руси в ней получают распространение методики византийского православного исихастского аскетизма. Конкретный метод обуздания плоти и устранения факторов, мешающих сосредоточению сердечного ума на духовном росте в православном исихазме обозначается понятием «умное делание». Основывался он на регулярной, непрекращающейся молитве Иисуса, помогавшей убрать из внутреннего плана человека лишнее и опустошить его сознание. Если аскет все делал правильно, то пустота начинала заполняться Божественной благодатью. При этом ум должен был находиться в постоянном напряжении, которое исихасты называли трезвением или, по выражению Исихия Иерусалимского, «сердечным безмолвием, и есть то же, что хранение ума в совершенной немечтательности держимого» .
Заключение
В данной работе я описала предысторию русского монашества, появление первых монастырей на Руси. А также рассказала о ярких исторических фигурах, которые повлияли на формирование и становление монашества.
В заключение хочется привести слова мало известного на Западе мыслителя князя Сергея Николаевича Трубецкого: «Монастыри -- это самое драгоценное сокровище нашей жизни, наша гордость, с каким бы высокомерным презрением ни относились к ним те, кто не знает духовной жизни, кто не хочет даже подумать о том, ради чего столь многие люди избирают этот жертвенный путь. Можно, конечно, говорить и о распущенности нравов в некоторых монастырях, и о лености, о бездельничанье монахов, и об их пороках,-- нигде контраст между идеалом и жизнью не был так велик, как в монастырях, хотя и нигде больше он не переживался так глубоко и мучительно. Мы ценим монастыри как учреждение, в котором учение Церкви выразилось в самой жизни... Мы ценим монастыри, невзирая на их недостатки и немощи, ради тех святых жемчужин, которые сияют из-за их стен. Они были местом духовного и нравственного воспитания народа»
Список используемой литературы
1. Смолич И.К. Русское монашество, 988--1917.
2. Ключевский В.О. Православие в России.
3. Никольский Н.М. История русской церкви.
Приложение
Киево-Печерская Лавра
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Михайловский собор Дмитриевского (Михайловского) монастыря в Киеве (1108-1113)
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Церковь Спаса на Берестове
(Спасский Берестовский монастырь)
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Выдубицкий монастырь
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Определение места монастырей и монашества в административном делении русской православной церкви конца XIX - начала XX века. Исследование роли монастырей в пилигримаже. Рассмотрение главных принципов культурно-просветительской деятельности монастырей.
дипломная работа , добавлен 27.06.2017
Становление монашества и монастырей в разные исторические периоды. Роль религии в формировании духовного и культурного развития русского народа. История монастырей и их роль в становлении и развитии русского государства. Монашество и монахи России.
реферат , добавлен 08.02.2013
Определение монашества. Происхождение монашества. Основатели монашества на Востоке и Западе. Монашество в католической Церкви. Историческое значение монашества и урегулирование жизни его со стороны Церкви.
реферат , добавлен 14.04.2003
Краткая история монашества IV века. Причины его возникновения и цель существования. Влияние монашества на современное общество. Образ жизни и обеты монахов. Основные формы монашества: отшельничество (анахоресис), общежитие (киновия) и сполпничество.
контрольная работа , добавлен 12.12.2012
Особенности распространения христианства на Руси. Положение о епископате. Развитие сети монастырей и монашества. Церковь в условиях Смутного времени и иноземной интервенции. Синодальный период русской православной церкви: реформы Петра I и Екатерины II.
реферат , добавлен 25.12.2013
Православные монастыри как объекты паломнического туризма. Влияние православных монастырей на многие аспекты жизни русского средневековья. Наследование Русью идеи монашеской аскезы (отречения от мира). Возникновение первых русских монастырей в городах.
реферат , добавлен 25.12.2009
Таинство как благодатное действие Бога. Знакомство с историей развития таинств и обрядов. Особенности основания монашества в Святом Писании. Общая характеристика основ догматического богословия. Рассмотрение наиболее распространенных богослужебных книг.
курсовая работа , добавлен 20.05.2015
Общая картина исторических событий в период XIII-начала XVI веков, Изменения, происходившие в церкви. Наблюдение жизни церковных людей. Жизнедеятельность Сергия Радонежского. Провозглашение Брестской унии. Общественный характер деятельность монашества.
реферат , добавлен 20.05.2013
Монашество в христианстве и его высший смысл. О содержании монашеской жизни. Истоки учения о монашеской жизни в учениях Святых Отцов. Монашеский подвиг как один из величайших подвигов христианской духовной жизни. Отречение от мира, достижение бесстрастия.
реферат , добавлен 14.12.2015
Устав святого Бенедикта. Возникновение ордена, его становление монашества. Четыре типа монахов: киновиты, эремиты, сарабаиты, гироваги. Молитва, чтение и ручной труд как составляющие средневековой монашеской жизни. Эффективность Устава святого Бенедикта.
Игумен Тихон (Полянский) *
Тесная взаимосвязь объединяла Русскую церковь с духовной культурой Византии, в которой ко времени Крещения Руси монастыри имели огромное значение. Естественно, что среди прибывавших на Русь христианских пастырей были и монашествующие. Предание говорит, что первый Киевский митрополит Михаил на одном из киевских холмов основал монастырь с деревянной церковью в честь своего небесного покровителя архистратига Михаила, а прибывшие с ним иноки основали монастырь на высокой горе близ Вышгорода. Супрасльская летопись свидетельствует, что князь Владимир вместе с Десятинной церковью построил и монастырь во имя Пресвятой Богородицы.
Основателями первого большого монастыря на Руси, который признается древнейшей русской обителью, были преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские. Примечателен тот факт, что они носят имена отца египетских анахоретов преподобного Антония Великого и основателя палестинской киновии преподобного Феодосия Иерусалимского. Это символически возводит истоки русского монашества к прославленным временам первых подвижников. Знаменитая Киево-Печерская обитель стала подлинной колыбелью русского монашества. Наряду с ней возникали и расширялись монастыри в разных русских землях. По данным современных ученых, на Руси в XI в. возникли 19 монастырей, еще как минимум 40 - в XII в., за четыре десятилетия XIII в. появились еще 14. Кроме этого, по некоторым сведениям, в домонгольский период были основаны еще 42 монастыря. То есть накануне татаро-монгольского нашествия общее число монастырей на Руси равнялось 115.
На Москве первые монастыри появились уже в XIII веке. В то время каждый удельный князь в любом из городов Северо-Восточной Руси старался украсить свою резиденцию хотя бы одной обителью. Город, особенно стольно-княжеский, не считался благоустроенным, если не имел монастыря и собора. Московское монашество началось при святом князе Данииле, когда был основан первый московский монастырь. В XIV-XV веках на московской земле новых монастырей появляется все больше. Это были обители и в самой столице, и в ближайшей ее округе, и на отдаленных рубежах Московского княжества. Их основание связано с именами великих русских святых: митрополита Алексия, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Саввы Звенигородского, Иосифа Волоцкого. К началу XX века в Москве действовали 15 мужских и 11 женских монастырей. Из них Вознесенский и Чудов находились в Кремле, сегодня от них не осталось и следа. Сверх этого количества еще 32 монастыря действовали в средневековой Москве.
Монастырь представляет собою общину монахов, братьев или сестер. Монах в переводе с греческого - "одинокий" или "отшельник". На Руси монахов часто называли иноками, то есть "иными" людьми, по образу жизни отличавшихся от других. К русским названиям монахов также относится обозначение "черноризец", или "чернец" (это обращение обрело уничижительный оттенок), по цвету носимой монахами одежды. В средневековье еще встречалось принесенное с православных Балкан слово "калугер", в переводе с греческого означающее "почтенный старец". Старцами называли особенно умудренных или начальствующих монахов, невзирая на их возраст. Друг друга монахи называли "брат", а тех из них, кто имел священный сан, называли "отец".
Свою жизнь монахи посвящают исполнению заповедей Господних и дают для этого при пострижении особые обещания. Эти обещания, или обеты, требуют от подвижника целомудрия, добровольной нищеты и послушания своему духовному наставнику для достижения христианского совершенства. После пострижения монах постоянно живет в монастыре. В постриге иноку усваивается новое имя, подвижник как бы рождается новым человеком, освободившимся от прежних грехов и начинающим тернистый путь духовного восхождения к Богу.

Перед тем как отречься от мира и вступить монашескую жизнь, мирянин становился послушником и проходил трехлетнее испытание (этот срок соблюдался не всегда и не везде, как, впрочем, и сама стадия послушничества, которой не могло быть при постриге тяжелобольного). Послушник получал благословение носить рясу и камилавку. После этого он назывался рясофорным, то есть носящим рясу. Рясофор не давал монашеских обетов, а только готовился к ним. Само монашество разделяется на две степени: малый ангельский образ и великий ангельский образ, или схима. Соответственно эти степени различались и по одеждам, которые носились монахами. Постриженный в малый ангельский образ носил на себе параман (небольшой четырехугольный плат с изображением Креста Господня и орудий Его страданий), подрясник и кожаный пояс. Поверх этой одежды он покрывался мантией - длинным плащом без рукавов, а на голову надевал клобук с наметкой (длинным покрывалом). Постриженный в малый образ получал монашеское имя и становился "манатейным" монахом (то есть носящим мантию). Малый образ - это подготовка к принятию схимы, которой достигают далеко не все монахи. Только после многолетней достойной иноческой жизни монах мог получить благословение на пострижение в великую схиму. Схимники облачались отчасти в такие же одежды, но вместо клобука надевали куколь, а на плечи схимника возлагался аналав, четырехугольный плат с изображением крестов. Все монашествующие непременно носили четки - шнурок с узелками или шариками, предназначенными для счета молитв и поклонов. В Древней Руси и у старообрядцев известна и другая форма четок - так называемая "лестовка", кожаный ремешок с нашитыми небольшими складками-листочками, которые перелистывают во время молитвы. Четки напоминают о том, что молиться монах должен постоянно. Да и все монашеские одежды имеют символическое значение и напоминают монашествующему о его обетах.
Формы организации монашеской жизни в монастырях Византии, а затем и на Руси, были разнообразными и во многом зависели от местных условий и традиций. Поэтому монашеские общины могли образовывать различные типы монастырей, специфика которых отражена в их названии. На Руси формы монастырской жизни не всегда соответствовали греческим, многие из них обрели собственно русские названия. Наиболее общим является обозначение "монастырь", которое произошло путем сокращения греческого слова "монастирион", что означает "уединенное жилище". Этому первоначальному смыслу слова "монастырь" больше всего в русском языке соответствуют слова "пустынь" и "обитель". Пустынью в старину называли те небольшие монастыри, которые возникали в малонаселенных пустынных местах, среди труднопроходимых лесов. Наибольший расцвет "пустынных" русских монастырей приходится на XIV - XV вв., то есть на время подвигов преподобного Сергия Радонежского и его учеников. Примером монастыря, в названии которого сохранилось слово "пустынь", может служить Оптина пустынь, по преданию основанная раскаявшимся разбойником Оптой в глухом лесу именно в XIV столетии. Другое русское название - "обитель" - происходит от глагола "обитать" с очень древней общей индоевропейской корневой основой и обозначает "место для жизни". Употреблялось оно не только для названия любого монастыря, но и для обозначения всякого места, жилища, где человеку хорошо жить. В этом смысле слово "обитель" звучало еще в русской классической литературе XIX в. В отличие от пустыни, где братия была обычно немногочисленной, крупнейшие монастыри получили название "лавра", что по-гречески значит "улица" или "поселок". В дореволюционной России существовало четыре Лавры: Киево-Печерская, Почаевская, Троице-Сергиева и Александро-Невская. При лаврах или других больших монастырях могли существовать "скиты", устраиваемые в отдалении от этих монастырей для того, чтобы в них могли жить отшельники. Название "скит" имеет общий корень со словами "скитаться, скиталец". Жившие в скиту сохраняли подчинение главному монастырю.
Название каждого монастыря, как правило, состояло из нескольких имен. Одно из них отражало посвящение главного соборного монастырского храма: Донской монастырь с главным собором в честь Донской иконы Божией Матери, Троицкий, Успенский, Спасо-Преображенский монастыри, в которых соборные храмы были посвящены одному из великих православных праздников. Обычно такое название обитель приобретала с самого своего возникновения, когда святой - основатель монастыря - возводил первую, зачастую маленькую деревянную церковь. Впоследствии в монастыре могли быть воздвигнуты многие большие каменные храмы, но только древнее посвящение первого храма, овеянное святостью преподобных отцов, занимало почетное место в названии обители. Не менее употребимым было название, дававшееся монастырю по именам святых подвижников, основавших монастырь или особо почитаемых в этом монастыре: Оптина пустынь, Иосифо-Волоцкий монастырь, Марфо-Мариинская обитель. В формуляр названия также очень рано вошло указание на географическое местоположение монастыря, то есть название, первоначально бытовавшее в местной топонимике: Соловецкий (по названию островов на Белом море), Валаамский, Дивеевский. В XVIII-XIX вв., когда возникают синодальные учреждения и консистории, в которых велось делопроизводство по духовному ведомству, в официальном обиходе сложился полный тип наименования монастырей, включавший все варианты названия: в честь праздника, по имени святого и по географичекому положению. В название также добавлялось указание мужская это обитель или женская, общежительная или необщежительная. Однако словосочетания вроде "Городищенский Рождество-Богородичный женский необщежительный монастырь в Заславском уезде", как правило, бытовало только на бумаге. Гораздо чаще говорили: Соловки, Валаам, Печоры. И до наших дней в разговоре о поездке в монастырь по-прежнему можно услышать: "собираюсь к Троице", "поеду к преподобному Сергию".
Современниками монастырь воспринимался как образ Царствия Божия на земле, как подобие Небесного Града Иерусалима из книги Апокалипсис. Это воплощение Царства Божия в монастырской архитектуре с наибольшей отчетливостью было программно заявлено в комплексе Нового Иерусалима, создававшегося по замыслу патриарха Никона.
В зависимости от типа монастыря и от его материального достатка, застройка монастырей была различной. Полностью архитектурный облик монастыря складывался далеко не сразу. Но в целом монастыри Московской Руси выработали единый идеал, уподобленный иконописному образу Небесного Града. При этом архитектурный облик каждого русского монастыря отличался своей неповторимостью. Ни одна обитель не повторяла другую, за исключением тех случаев, когда копирование имело особый духовный смысл (например, патриарх Никон в Ново-Иерусалимском монастыре воссоздал облик святынь Палестины). Также любили на Руси повторять архитектурные формы прекрасного Успенского собора Московского Кремля. Несмотря на это каждый монастырь и каждый храм обладал особенной красотой: один блистал торжественным благолепием и силой, другой - создавал впечатление тихого духовного пристанища. Облик монастыря мог формироваться в течение нескольких столетий, однако монастырское строительство было подчинено сохранявшимся в веках задачам существования монастыря и его символическому значению. Поскольку средневековый русский монастырь выполнял несколько функций, то в состав его архитектурного ансамбля входили постройки разнообразного назначения: храмы, жилые и хозяйственные помещения, оборонительные сооружения.
Обычно уже на стадии строительства монастырь огораживался стеной. Деревянная, а потом каменная ограда, отделявшая монастырь от мира, делала его похожим на особенный город или духовную крепость. Место, где располагался монастырь, выбиралось не случайно. В учет принимались соображения безопасности, поэтому традиционно монастырь строился на холме при устье ручья, впадающего в речку, либо в месте слияния двух рек, на островах или берегах озера. До самой середины XVII в. русские монастыри играли важную военно-оборонительную роль. Патриарх Московский и всея Руси Никон говорил, что "в нашей стране есть три очень богатых монастыря - великие царские крепости. Первый монастырь - святой Троицы. Он больше и богаче остальных, второй… известен под именем Кирилло-Белозерского… Третий монастырь - Соловецкий…" Монастыри играли большое значение и в обороне Москвы, как бы кольцом опоясывая столицу: Новодевичий, Данилов, Новоспасский, Симонов, Донской. Их стены и башни были построены по всем правилам военного искусства.
Во время вражеского нападения в "осадное сидение" под защиту монастырских стен собирались жители окрестных селений, и вместе с иноками и дружинниками они занимали боевые посты. Стены больших монастырей имели несколько ярусов, или уровней боя. На нижнем устанавливались артиллерийские батареи, со среднего и верхнего врагов поражали стрелами, камнями, лили кипяток, горячую смолу, сыпали золу и раскаленные угли. Каждая башня в случае захвата участка стены нападавшими могла становиться самостоятельной маленькой крепостью. Склады боеприпасов, запасы продовольствия и внутренние колодцы или подземные ручьи позволяли до подхода помощи автономно выдерживать осаду. Монастырские башни и стены выполняли не только оборонительные задачи. Основное время их роль была вполне мирной: внутренние помещения использовались для нужд монастырского хозяйства. Здесь располагались кладовые с припасами и разные мастерские: поварни, пекарни, квасоварни, прядильни. Иногда в башнях заключались преступники, как это было в Соловецком монастыре.

Башни могли быть глухими или проездными, имевшими ворота внутрь монастырской ограды. Главные и самые красивые ворота назывались Святыми вратами и располагались обычно напротив монастырского собора. Над Святыми вратами часто помещался небольшой надвратный храм, а иногда и колокольня (как в Донском и Даниловом монастырях). Надвратную церковь обычно посвящали Входу Господню в Иерусалим или праздникам в честь Пресвятой Богородицы, что обозначало покровительство Господа и Пречистой Божией Матери над монастырским "градом". Нередко в этом храме, при самом входе в монастырь, совершались монашеские постриги, и вновь постриженный монах как бы впервые входил в святую обитель в своем новом состоянии.
Внутри по периметру монастырских стен располагались корпуса братских келий. В начале существования монастыря кельи представляли собой обычные рубленые избы, которые по мере роста благосостояния обители сменялись каменными домами, иногда многоэтажными. В центре жилой застройки находился главный монастырский двор, посередине которого стояли самые главные строения. И духовно, и архитектурно ансамбль монастыря возглавлял монастырский собор, который старались построить высоким, светлым, заметным издали. Как правило, первый храм закладывался и строился из дерева самим святым основателем монастыря, затем его перестраивали в камне, и в этом соборе находили упокоение мощи основателя. Главный монастырский храм давал название всему монастырю: Вознесенский, Златоустовский, Троице-Сергиев, Спасо-Андроников. В соборе проходили главные службы, торжественно принимались высокие гости, зачитывались государевы и архиерейские грамоты, хранились величайшие святыни.
Не меньшее значение имел трапезный храм - особое здание, в котором с востока устраивалась сравнительно небольшая церковь с примыкающей к ней обширной трапезной палатой. Конструкция трапезной церкви была подчинена требованиям монастырского общежительного устава: иноки наряду с совместной молитвой разделяли и общее вкушение пищи. Перед принятием пищи и после братия пела молитвы. Во время самой трапезы "учиненный брат" читал поучительные книги - жития святых, толкования священных книг и обрядов. Празднословить во время еды не позволялось.
Трапезная, в отличие от большого монастырского собора, могла отапливаться, что в условиях долгой русской зимы имело важное значение. Благодаря большим размерам трапезная палата могла вместить всю братию и паломников. Поразительны размеры трапезной палаты Соловецкого монастыря, площадь которой составляет 475 м.кв. Благодаря большому пространству трапезные храмы становились местом монастырских собраний. Уже в наши дни просторные трапезные храмы Новодевичьего и Троице-Сергиева монастырей становились местом проведения Соборов Русской Православной церкви.

В северных русских монастырях трапезная часто располагалась на достаточно высоком цокольном этаже - так называемом "подклете". Это одновременно позволяло сохранить тепло и разместить различные службы: монастырские погреба с припасами, поварни, просфорни, квасоварни. Длинными зимними вечерами в теплой трапезной шла многочасовая служба, в промежутках между богослужениями монахи и богомольцы подкреплялись положенной по уставу пищей, слушали чтение рукописных книг. Чтение в монастыре вовсе не было способом провождения времени или развлечением, оно как бы продолжало богослужение. Одни книги предназначались для совместного чтения вслух, другие читались келейно, то есть монахом в своей келье. В древнерусских книгах были духовные поучения о Боге, о молитве и милосердии; читатель или слушатель узнавал многое о мире, об устройстве Вселенной, получал сведения по анатомии и медицине, представлял далекие страны и народы, углублялся в древнюю историю. Письменное слово несло людям знание, поэтому к чтению относились как к молитве, а книги берегли и собирали. Пустые или праздные книги в монастыре были просто немыслимы.
В монастыре кроме собора, трапезной и надвратной церквей могло быть еще несколько церквей и часовен, построенных в честь святых или памятных событий. Во многих монастырях с обширной застройкой весь комплекс зданий мог быть соединен крытыми каменными переходами, которые связывали воедино все постройки. Помимо удобства эти переходы символизировали священное единство внутри монастыря.
Еще одним обязательным сооружением главного монастырского двора была колокольня, которую в разных местностях также называли звонарня или звонница. Как правило, высокие монастырские колокольни сооружались достаточно поздно: в XVII - XVIII веках. С высоты колокольни велось наблюдение над десятками верст окрестных дорог, и в случае замеченной опасности немедленно раздавался тревожный звон. Замечательны по объединяющему общему замыслу колокольни сторожевых московских монастырей: с каждой из них была видна колокольня Ивана Великого в Кремле.
Все монастырские колокола различались как по своим размерам, так и по тембру звучания. По звону колоколов богомолец узнавал о приближении к монастырю, когда сам монастырь еще нельзя было увидеть. По характеру звона можно было узнать о событии, по поводу которого звонит колокол, будь то нападение врагов или пожар, смерть государя или архиерея, начало или конец богослужения. Колокольный звон в древности был слышен на несколько десятков километров. На колокольне несли послушание звонари, для которых звонить в колокола было особым искусством и делом всей жизни. В любое время года они поднимались по узким и крутым деревянным лестницам, на леденящем ветру или под палящим солнцем раскачивали многопудовые колокольные языки и ударяли в колокола. А в непогоду именно звонари спасали десятки жизней: в пургу, в ночной ливень или туман они часами звонили на колокольне, чтобы захваченные врасплох стихией путники не сбились с дороги.
При монастырях существовали братские кладбища, на которых погребали насельников монастыря. Многие мирские люди считали большой честью быть похороненным при монастыре, неподалеку от святынь и храмов, и делали различные вклады на поминовение души.
По мере роста монастыря в нем появлялось множество специальных служб. Они образовывали хозяйственный двор монастыря, расположенный между жилыми постройками и монастырскими стенами. На нем возводились конюшни, кожевенные и дровяные склады, сеновалы. Отдельно неподалеку от монастыря могли быть построены больницы, библиотеки, мельницы, иконописные и прочие мастерские. От монастыря в разные стороны шли дороги к скитам и монастырским угодьям: полям, огородам, пасекам, сенокосам, скотному двору и рыбным ловлям. По особому благословению иноки, на которых было возложено хозяйственное послушание, могли жить отдельно от монастыря и приходить туда на службы. В скитах жили старцы, принявшие подвиг затворничества и молчальничества, они годами могли не выходить за пределы скита. Бремя затвора они слагали после достижения духовного совершенства.
Помимо ближайшей округи, монастырь мог обладать землями и угодьями в отдаленных местах. В крупных городах строились монастырские подворья - как бы монастыри в миниатюре, череду служб в которых несли иеромонахи, присланные из монастыря. У подворья мог быть настоятель, здесь останавливался игумен и другая монастырская братия, когда приезжали в город по каким-либо делам. Подворье играло важную роль в общей жизни монастыря, через него шла торговля: привозились продукты, произведенные в монастырском хозяйстве, а в городе приобретались книги, ценности, вина.

Любым монастырем в древности управлял игумен (или игуменья, если монастырь был женским). Это название начальствующего лица по-гречески означает "правящий, предводительствующий". С 1764 г. по "штатному расписанию" игумен возглавлял обитель третьего класса, а монастыри первого и второго класса стали возглавляться архимандритами. Игумен или архимандрит жил в отдельных настоятельских покоях. Ближайшими советниками игумена были старцы - особо умудренные монахи, не обязательно имевшие священный сан. Большое значение в составе монастырского управления, особенно по хозяйственной части, имел келарь, заведовавший кельями и размещением в них монахов, наблюдавший за чистотой, порядком и благоустройством монастыря. Монастырской казной, приемом и расходом денежных средств ведал казначей. Монастырская ризница, утварь и облачения были под ответственностью ризничего. За порядок отправления службы в церкви в соответствии с богослужебным уставом отвечал уставщик. Для выполнения различных поручений сановных лиц к ним приставлялись келейники, обычно из числа послушников, еще не принявших пострига. Для совершения каждодневных богослужений устанавливалась череда монахов-священников, которых называли по-гречески иеромонахами, или священноиноками по-русски. Им сослужили иеродиаконы; иноки, не имевшие посвящения в сан, выполняли обязанности пономарей - приносили и разжигали уголь для кадила, подавали воду, просфоры, свечи для службы, пели на клиросе.
В монастыре существовало распределение обязанностей для каждого монаха. Каждый из братии имел определенное послушание, то есть работу, за которую он отвечал. Помимо послушаний, связанных с управлением обителью и церковной службой, было немало послушаний чисто хозяйственного характера. Это заготовка дров, обработка полей и огородов, уход за скотиной. Трудившиеся на поварне иноки умели вкусно приготовить монастырскую трапезу, в основном - растительную или рыбную (не случайно сегодня в любой кулинарной книге мы можем найти их древние рецепты блюд "по-монастырски"). В пекарне выпекали душистые хлеба, а выпечку просфор - особых округлых квасных хлебцов с изображением креста для Литургии - доверяли только опытному пекарю, просфорнику. Выпечка просфор - святое дело, ведь именно с этого начинается подготовка Литургии. Поэтому многие преподобные подвижники, достигшие и высот духовного делания, и всеобщего признания, не считали для себя выпечку просфор "черновой" работой. Сергий Радонежский собственноручно молол и сеял муку, квасил и месил тесто, сажал листы с просфорами в печь.
На богослужение ранним утром монахов поднимал "будильщик" - инок, который с колокольчиком в руках обходил все кельи и при этом возглашал: "Пению время, молитве час, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!" После того как все собирались в соборе, начинался братский молебен, обычно совершаемый перед мощами святого основателя монастыря. Затем читались утренние молитвы и полунощница, а после отпуста вся братия прикладывалась к чтимым святыням монастыря - чудотворным иконам и мощам. После этого, получив благословение игумена, шли на послушания, за исключением того иеромонаха, чья очередь была совершать Божественную Литургию.
Братия монастыря напряженно трудилась для обеспечения обители всем необходимым. Хозяйство многих древнерусских монастырей было образцовым. Не всегда имея возможность для ведения сельского хозяйства в самой столице, московские монастыри владели подмосковными и более отдаленными селами. Жизнь крестьян в монастырских имениях в годы татарского ига, да и после него, была богаче и легче. Среди монастырских крестьян был высок процент грамотных. Иноки всегда делились с неимущими, помогали больным, обездоленным и путешествующим. При монастырях существовали странноприимные дома, богадельни и больницы, обслуживаемые монахами. Из монастырей часто рассылали милостыню томившимся в заключении узникам, бедствующим от голода людям.
Важной заботой иноков было строительство и украшение храмов, написание икон, переписка богослужебных книг и ведение летописей. Ученых монахов приглашали для обучения детей. Как центры просвещения и культуры особенно славились Троице-Сергиев и Иосифо-Волоцкий монастыри недалеко от Москвы. В них были собраны огромные библиотеки. Преподобный Иосиф, собственноручно переписывавший книги, известен нам как выдающийся древнерусский писатель. В Спасо-Андрониковом монастыре в Москве создавали свои шедевры великие иконописцы Андрей Рублев и Даниил Черный.
Русский народ любил монастыри. Когда возникал новый монастырь, люди начинали селиться вокруг него, и постепенно образовывался целый поселок или слобода, иначе называвшаяся "посадом". Так в Москве образовалась Данилова слобода вокруг Данилова монастыря на речке Даниловке, ныне исчезнувшей. Целые города выросли вокруг Троице-Сергиева, Кирилло-Белозерского, Ново-Иерусалимского монастырей. Монастыри всегда были идеалом и школой русской духовной культуры. В течение многих столетий они воспитывали неповторимый характер не только русского инока, но и русского человека. Не случайно борьба за свержение ордынского ига была одухотворена благословением из монастыря преподобного Сергия Радонежского, а на Куликовом поле плечом к плечу с русскими дружинниками стояли святые иноки Пересвет и Ослябя.
Игумен Тихон (Полянский), канд. филос. наук, настоятель Троицкой церкви с. Захарова Клинского благочиния Московской епархии
Фото: священник Александр Ивлев
Примечания
1. Анахореты (греч. αναχωρησις) - удалившиеся от мира, отшельники, пустынники. Так назывались люди, которые ради христианского подвижничества живут в уединённых и пустынных местностях, по возможности чуждаясь всякого общения с другими.
2. Киновия (от греч. κοινός - общий, и βιός - жизнь) - название нынешних так называемых общежительных монастырей, в которых братия не только стол, но и одежду и т. п. получают от монастыря, по распоряжению настоятеля, а, со своей стороны, весь свой труд и его плоды предоставляют обязательно на общую потребу монастыря. Не только простые монахи, но и настоятели таких монастырей ничем не могут располагать на правах собственности; их имущество не может быть ими ни завещаемо, ни раздаваемо. Настоятели в таких монастырях избираются братией монастыря и лишь утверждаются в должности, по представлению епархиального архиерея, св. синодом.
3. Среди всех монастырей России колокольный звон в советские годы, невзирая на официальные запреты, никогда не прекращался в Псково-Печерском монастыре. Стоит назвать некоторые имена тех талантливых звонарей, которые сохраняли и возрождали древнее искусство звона в XX столетии: известный музыкант К. Сараджев, впервые предложивший особую нотную запись звонов, слепой инок Сергий и К.И. Родионов (в Троице-Сергиевой лавре), о. Алексий (в Псково-Печорах), В.И. Машков (в Новодевичьем монастыре)
25 Октября 2018