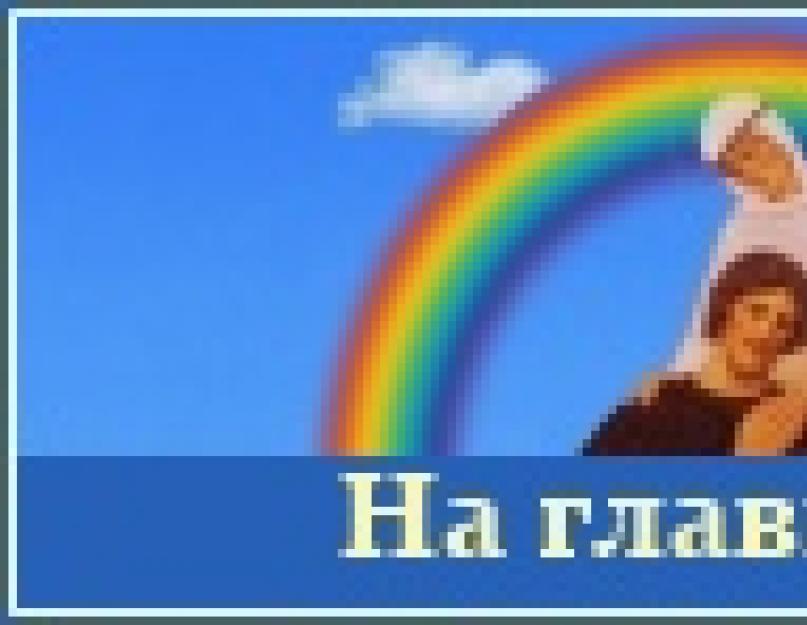З дравствуйте, дорогие посетители православного сайта “Семья и Вера”!
К познавательному просмотру (и прочтению) предлагаем очередной выпуск передачи “Беседы с батюшкой” телеканала “Союз”, гостем которой стал настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове священник Андрей Алексеев.
Т ема телепередачи: Николай Васильевич Гоголь и православие.
. .
Ведущий
М
ихаил Проходцев
Записала
К
сения Сосновская
(Расшифровка выполнена с минимальным редактированием устной речи)
В петербургской студии нашего телеканала на вопросы отвечает настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Светогорска священник Михаил Котов.
(Расшифровка выполнена с минимальным редактированием устной речи)
– Дорогие друзья, сегодня мы с отцом Михаилом продолжим беседовать о русской литературе, и нынешняя наша тема: «Николай Васильевич Гоголь и православие». Давайте объясним нашим телезрителям, почему мы решили поговорить сегодня именно о Гоголе.
– Поскольку наша передача выходит на церковном канале, хотелось бы в первую очередь сказать, что Николай Васильевич, наверное, единственный из всех наших классиков (а в рамках нашей передачи мы рассматриваем именно их) поставил себе такую высокую цель – литературное служение как сознательное служение именно православию. И этот тезис мы постараемся доказать в течение передачи.
Один из исследователей творчества Николая Васильевича писал о нем («Духовный путь Гоголя»): «В нравственной области Гоголь был гениально одарен; ему было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии, сдвинуть ее на путь Достоевского. Все черты, характеризующие “великую русскую литературу”, ставшую мировой, были намечены Гоголем: ее религиозно-нравственный строй, ее гражданственность и общественность, ее боевой и практический характер, пророческий пафос и мессианство. С Гоголя начинается широкая дорога, мировые просторы».
В 2009 году вся полнота литературного сознания праздновала великий юбилей – 200 лет со дня рождения нашего незабываемого классика. Впервые в истории было издано полное собрание всех сочинений и, что самое главное, писем Гоголя. Это 17 огромных томов. И надо отметить, что это издание стало возможно благодаря Церкви. Ни одно светское издательство не взяло на себя этот труд. Издательство Московской Патриархии по благословению нашего Святейшего Патриарха Кирилла и уже приснопоминаемого блаженнейшего митрополита Владимира издает этот труд.
А что такое издать 17 томов Гоголя? Это остановить все текущие проекты, обязательно выделить время на этот удивительный труд. Два человека: Владимир Алексеевич Воропаев – профессор МГУ, доктор филологических наук, возглавляющий Гоголевскую комиссию при Российской академии наук, и Игорь Алексеевич Виноградов, который тоже занимается творчеством Гоголя, подарили нам настоящий праздник. Почему?
Дело в том, что мы с вами знаем Гоголя по школьной программе, может быть, даже по программе института как яркого сатирика. Он удивительно смешной писатель, причем смех у него интеллектуальный, достаточно тонкий и даже, как правило, это смех сквозь слезы. И никому и в голову не приходило, что набрались целые тома, где Гоголь делает выписки из святых отцов. Такие имена, как Афанасий Великий, Кирилл Александрийский, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Иоанн Дамаскин и так далее, и так далее, были близки Николаю Васильевичу, и он всем советовал: «Читайте святых отцов; и читайте с пометками». Известна Библия Николая Васильевича, тоже с пометками, особенно их много на посланиях апостола Павла, которые он очень любил. Кстати, послания апостола Павла очень любил Иоанн Златоуст и во множестве их толковал.
Также Николай Васильевич написал два удивительных произведения, которые даже не входили во множество собраний сочинений, изданных в советское время, – это «Выбранные места из переписки с друзьями», его авторская исповедь, и произведение «Размышления о Божественной литургии», которое хотя и является черновиками, но не утратило своей актуальности до сих пор.
Нам известно, и до сих пор повторяют порой это клише, что Николай Васильевич – очень загадочная фигура, вокруг которой много неразгаданных тайн: вроде бы сам себя голодом уморил и вроде бы сошел с ума; и чуть ли не живьем его похоронили и так далее. Но благодаря труду уважаемых профессоров сегодня мы с вами можем объективно посмотреть на эту удивительную личность.
Почему это издание вышло как в России, так и на Украине? Во-первых, сам Николай Васильевич Гоголь – живой пример единения двух славянских народов. Это издание призвано в первую очередь не разъединять два этих народа, а соединить их: это наше общее начало. Есть свидетельства, что сам Николай Васильевич говорил, что и малоросс, и великоросс… Два близнеца, то есть это один народ. Он никогда не делил их по национальному признаку. Мало того, мы разговариваем на одном языке – языке молитвы, церковнославянском. Кроме того, в середине XIX века было очень мало переводов святых отцов (которых я перечислил) на русский язык, и Гоголь читал их в церковнославянском переводе.
Конечно, когда начинаешь открывать для себя эти вещи, то и столь знакомые нам «Вечера на хуторе близ Диканьки» звучат совсем по-другому. И «Ревизора» мы можем прочитать уже метафизически, то есть посмотреть не только с комической стороны – как на смешное обличение порядков, но и со стороны духовной. Так же и на «Мертвые души». И, конечно, коснуться удивительной проблемы, над которой Гоголь как великий художник мучился в конце жизни: достойно ли то, что он пишет, того, чтобы выйти на свет? Он предъявлял к себе очень высокие требования.
Борис Зайцев в эмиграции высказал такую мысль: «Всем великим художникам, всем великим писателям присуще то, что они начинают с художественных произведений, а заканчивают духовными». Это есть в музыке: насколько мажорные произведения у Моцарта, и вдруг в конце жизни минор – «Реквием». Или, например, мы знаем Рахманинова, Чайковского, которые в конце своего творческого пути обращались к духовной теме, писали музыку для всенощного бдения, Божественной литургии.
То же самое случилось и с Николаем Васильевичем Гоголем. И недопонимание как раз от того и произошло, что просто не поняли. Кроме его самого, эти духовные искания были не нужны большей части того общества, к которому он обращался. Отсюда – сумасшествие. Мы знаем слова апостола Павла: «То, что от Духа Святого, душевный человек не принимает, потому что это кажется ему безумным». Конечно, если мы чего-то не понимаем, очень просто сказать: да это же сумасшествие. Хотя, конечно, Николай Васильевич был абсолютно здоров.
Вообще и в нашей жизни до сих пор не изжит такой шаблон: как только человек обращается лицом к религии, кругу его знакомых сразу же кажется, что что-то не в порядке с головой у этого человека. Хотя если вспомнить известного киевского психиатра Сикорского, написавшего до революции достаточно большое количество трудов, он впрямую говорит, что религиозное чувство – это признак нормальности человека. Верующий человек – это психически здоровый человек.
Николай Васильевич Гоголь всегда был на пути к религии. У него была очень набожная семья. Да, в конце жизни он испытал кризис, но это было не признаком его сумасшествия, а того, что Николай Васильевич становится на одну ступень выше. Может быть, в этом и кроется ключ к разгадке его тайны.
Если мы начнем с первого сборника Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», то увидим, что здесь он очень мастерски, с присущим ему искрометным смехом показывает достаточно серьезные вещи. Во-первых, говорит о том, что для него реален не только этот мир, но и мир духовный. Ведь когда он вошел в литературу с этим сборником, ему было всего 22 года, это абсолютно юный возраст. Когда он пишет об этом, многие его ровесники как раз стали сомневаться в существовании духовного мира. Идея просвещения, рацио… Всё пытались объяснить логически, и какие там духовные миры – всё это пережитки прошлого. Нет. Николай Васильевич прямо говорит о том, что два этих мира существуют параллельно и даже взаимодействуют друг с другом. И начиная с «Вечеров на хуторе близ Диканьки» дальше наш великий классик сделает эту тему генеральной – прямой дорогой по всему его творчеству.
Обращает на себя внимание и обрядная, фольклорная сторона. Насколько удивительно Гоголь знает традиции народной культуры, чего, кстати, очень сильно недостает в нашей жизни. Мы знаем многие направления и течения и в культуре, и в искусстве, и в популярной музыке и, как правило, не знаем своих корневых, народных песен, сказок и поговорок, хотя это далеко не бесполезная вещь.
Еще один момент, который потом тоже будет присутствовать в творчестве Николая Васильевича, – это искрометный смех как принцип борьбы со злом. Мы с вами знаем, что смеха мы боимся. Как писал сам Гоголь, оказаться смешным боится даже тот, кто вообще ничего не боится. Видя зло этого мира и прекрасно его понимая – а у него был абсолютный слух на зло, это был его дар, его мучение и, можно даже сказать, его крест – через смех он побеждал это зло. Преображался сам изнутри и хотел преобразить соотечественников. Не всегда, конечно, соотечественники этот принцип понимали, иногда просто смеялись, не работая над собой.
И для второго сборника «Миргород» тема богоотступничества, апостасии, которая характерна и для нашего времени ничуть не меньше, чем для второй половины XIX века, тоже становится такой доминантой. Что здесь хочет сказать Николай Васильевич? Во-первых, он не просто хочет показать, что зло существует в этом мире, а впервые пытается показать пути выхода из этих тупиковых ситуаций. В прошлой передаче мы рассматривали его «Старосветских помещиков». Кто-нибудь может даже сказать, что это вроде бы примитив. Но при этой простоте удивительная глубина и удивительный талант.
А продолжает эту тему другой его шедевр мирового уровня – «Тарас Бульба». Многие христиане ставят перед собой такой же вопрос: имеет ли право христианин брать в руки оружие, имеет ли он право убивать. И у святых отцов есть разные мнения на этот счет. Кто-то говорит, что не имеет права. Например, у Кирилла Александрийского мы находим, что дело военное не просто дело достойное, а дело, достойное похвалы. Но в каком случае? Если христианин защищает свою родину, свою семью. Если защищает свою веру. Религиозная война, которую показывает Николай Васильевич, – это, конечно, война правая. И здесь мы можем сказать, что правда именно на стороне казаков, которые воюют с Речью Посполитой и за свою родину, и за свою веру: слишком на многие вещи больно наступили.
Например, мы знаем удивительно смешную повесть «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и знаем, как она заканчивается: «Как скучно жить на этом свете, господа!» Откуда же берется эта скука, если так смешно? Для Гоголя синонимом скуки является страх. И страх Божий как религиозная категория, и вообще страх перед злом. Он даже напишет в одном своем произведении: «Страшно! Соотечественники! Дьявол уже без маски ходит в этом мире!» Мы знаем, что дьявол принимает различного рода личины: это же льстец, очень хитрое существо, которое, если оно будет действовать прямо, достаточно легко распознать. Он под разными масками пытается войти в нашу жизнь. А Гоголь пишет о том, что в середине XIX века ему уже не надо никаких масок. Вот он уже прямиком действует в этом мире. Гоголь это видит, а окружающие его – нет. Гоголь это прекрасно слышит, а окружающие его – нет. Поэтому он бьет в набат – говорит об этих вещах, а его не понимают.
И здесь мы можем говорить о том, что когда появляются такие его шедевры, как «Ревизор» и «Мертвые души», они становятся тем переломным этапом, который потом и приведет его к духовному кризису. Если «Ревизор» в метафизическом, духовном плане – это как бы город души, то «Мертвые души» – это уже душевная страна.
Конечно, за 150 лет очень много написано о «Ревизоре», и это, наверное, одно из лучших произведений на театральной сцене. Гоголь дает очень много материала актерам, режиссерам. И даже если актер не совсем талантливо исполнит это произведение, уже будет замечательно. Если актер талантлив, как, например, Михаил Щепкин, то это будет и смешно, и интересно вдвойне. Но что удивительно – Гоголь недоволен. Тот смех, который он вызвал у публики, не является той реакцией, которую бы хотел пробудить Гоголь. Многие, конечно, и с подачи Белинского – известного законодателя моды в литературе, понимают это просто как пародию на современность, общественность. Кстати, сам Николай I смотрел эту пьесу и, когда выходил, говорил: «Ну и пьеска! Всем досталось, а мне более всех!» Конечно, Николай Васильевич все это делает специально. И для того, чтобы посмеяться, и для того, чтобы изобличить.
Но через десять лет появится произведение под названием «Развязка “Ревизора”», где Гоголь даст нам понять, как надо понимать «Ревизора». Там он напишет: «Посмотрите на тот город, который изображен в “Ревизоре”. Где вы такой город найдете? Его просто нет на карте. Это город нашей души. А те чиновники? Ведь это сплошные уроды. У нас нет таких чиновников. Один, два, но ведь найдутся хорошие, честные, справедливые, а здесь ни одного». То есть к жизни это на самом деле имеет мало отношения. Тогда к чему? Это имеет отношение к нашей душе. Чиновники, обкрадывающие казну, – это страсти, которые обкрадывают богатую казну нашей души. Гоголь говорит о том, что страшен тот «ревизор», который нас ожидает за гробовой доской.
Один интересный эпизод. В конце XIX века «Ревизора» давали где-то на юге, и был необычный зритель: сидела братия одного монастыря. Когда актеры вышли на сцену и стали блистательно играть эту комедию, в зале не было смеха. Сидели и отец игумен, и эконом, и келарь, братия монастыря. Потом актер вспоминает, что когда он пришел в монастырь, чтобы поклониться мощам, то монах, дежуривший у мощей, сказал ему на выходе: «Памятуй, сын мой, в сердце своем полунощного ревизора и благоустрояй град свой душевный, ибо никто не ведает ни дня, ни часа, егда он вогрядет взыскать содеянное. Не замедлит прийти в час, когда не ждем, и проверит все наши дела земные, все судить станет». Удивительно! Братия монастыря поняла пьесу, не читая даже наверняка «Развязки “Ревизора”», именно так, как ее задумал Николай Васильевич Гоголь. К сожалению, эта сторона была очень долго скрыта от наших соотечественников. И сегодня мы, конечно, имеем право взглянуть на это произведение именно с такой точки зрения.
То же самое с поэмой «Мертвые души»: ведь она задумывается не как однотомное произведение. Причем весь сыр-бор разгорелся вокруг второго тома с его сожжением, а, оказывается, по замыслу было три тома. В первом томе Гоголь действительно показывает и изобличает вещи, не совсем лицеприятные для каждого из нас, во втором ищет дорогу, а в третьем томе он эту дорогу находит. То есть автор не просто дает негатив, он дает позитив.
– Вопрос телезрителя из Краснодарского края: «У меня вопрос по поводу размышлений Гоголя о литургии. Я сам не читал, читала моя жена, которой очень понравилось. Но я слышал мнение об этом произведении нашего любимого профессора, который оценил его как «сплошной католицизм». Как это, на Ваш взгляд?»
– Вы нас немного опередили: мы хотели порассуждать об этом в конце. Но раз вопрос поступил, ответим.
Уважаемый профессор, конечно, имеет право на такую точку зрения. Но мы говорили, что «Размышления о Божественной литургии» – это черновики, еще не законченное произведение. У Гоголя с католицизмом были достаточно плотные взаимоотношения: достаточное время он жил за границей, а также посещал салон княгини Волконской, которая с большим пиететом относилась к католицизму и, будучи православной христианкой, в него перешла. Даже существует письмо Гоголя к матери, где он пишет: «Ну, православные, католики, в принципе, делить нам нечего: вера у нас одна, догматы одни» – достаточно сомнительные вещи для православного человека. Но впоследствии сам Гоголь от этого откажется.
Не знаю, на каких основаниях уважаемый профессор сделал вывод по поводу католицизма именно в «Размышлениях о Божественной литургии», потому что это произведение уже зрелого Гоголя. И он обращается даже не к воцерковленным людям, а к тем, которые только находят свою дорогу к храму, свой путь к Богу, и поясняет многие вещи. Кстати, похожее произведение есть у известного духовного писателя Муравьева, фактически современника Гоголя, который тоже пишет о православном богослужении.
Поэтому я бы, наверное, не согласился, но не претендую на абсолютную истину. «Размышления о Божественной литургии» достаточно хороши, чтобы посмотреть их новоначальным. Чтобы, может быть, с них начать свое понимание самого главного таинства и самой главной службы нашей Православной Церкви.
– Спасибо, отец Михаил, мы можем вернуться к «Мертвым душам».
– Получается, что пафос «Мертвых душ» тоже не был понятен. За «Ревизора» Гоголю рукоплескали, а он был недоволен, потому что он как бы вызывал на духовную борьбу. Ведь взят удивительный эпиграф: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Ведь «зеркало» – это то, как Гоголь отразил российскую действительность. Все видят, что эта действительность мрачна, она даже смешна, надо над ней посмеяться и исправить – и все будет нормально. Так понимал Белинский и многие… не скажу мыслители: мысль слишком слабая, – но больше деятели.
Мы с вами уже посмотрели, как это понимал сам Гоголь. Само зеркало имеет духовный смысл. Например, у Тихона Задонского мы находим: «Что для детей века сего зеркало, тем для христианина является Евангелие». Мы с вами смотримся в зеркало по нескольку раз в день: здесь поправим, тут поправим, только потом выйдем на люди. То же самое Евангелие для христианина: надо смотреть туда и соизмерять свои мысли, желания, поступки и действия с тем, что оставил нам Христос. И поэтому получается, что во многих моментах рожа действительно крива, зеркало ни при чем, Церковь ни при чем, духовенство ругать не надо. И Гоголь пытается об этом достучаться.
В «Мертвых душах», как мы уже говорили, показан не просто город душевный, а целая душевная страна. Сам Николай Васильевич признается в «Авторской исповеди», что когда он изображал этих Маниловых, Собакевичей, Коробочек и других помещиков, он брал какую-то определенную страсть. Конечно, прибегал к гиперболе, показывал все это гипертрофированно. И замечал это, что самое главное, в себе и своих знакомых, показывая в таком вот свете.
Безусловно, Гоголь обращает внимание на российскую действительность, но в первую очередь его генеральная линия – обрати, христианин, свой взор внутрь себя. Общество слагается из единиц, надо, чтобы единица была здоровая, чтобы ты был здоров. Поэтому его прием – смех над страстями, пороками – имеет и духовный смысл. Над пороками надо не только смеяться, их надо побеждать, и начинать надо с себя – мысль, достойная внимания.
– Я сейчас вспомнил произведение Николая Васильевича Гоголя «Портрет», потому что это первое его произведение, которое я понял не просто как сатирическое. В нем были такие моменты, благодаря которым я, как школьник, впервые обратил на себя внимание: а что же я? Какие изменения происходят с художником, как его начинает поедать собственное тщеславие – можно проследить такую параллель.
– Ведь потом герой становится монахом и дает наставление своему сыну о том, что художественная область достаточно тонкая и дьявол достаточно тонок: он пытается влезть в нее подспудно, а иногда и прямо. Вообще дар слова для Гоголя – это высочайший дар, он чувствует свою ответственность в связи со словами Самого Спасителя: «От слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься». За каждое праздное слово человек даст ответ на суде.
Поэтому Гоголь понимал: «Ревизор» имеет высочайший успех. Как, например, есть такие чудаки олимпийские чемпионы: он медаль золотую завоевал, а приезжает недовольным. Почему? Потому что хотел прыгнуть не на метр семьдесят пять, а на метр восемьдесят. Ему дали медаль, он олимпийский чемпион, но на метр восемьдесят он не прыгнул. Так и Гоголь: он взял эту высоту, но художественное творчество его уже мало волновало, а волновала духовная сторона, а ее не поняли и даже, можно сказать, от нее отошли.
Был даже такой эпизод. Николай Васильевич приходит в гости к своему знакомому, видит у него на полке свои произведения, в том числе «Ревизора» и «Мертвые души», и говорит: «Как? Вы их читаете?!» Он даже потом сожалел, что их написал.
И эта удивительная борьба внутри Гоголя, когда от художественного творчества он хочет встать на путь духовного писателя, и привела к тому, что он сжег второй том «Мертвых душ». Кстати, многие исследователи говорят о том, что полностью второй том не был написан, была написана лишь часть его. Видя, что первый том пошел уже не в ту сторону, не было смысла дописывать второй.
– Вопрос телезрителя: «Как с православной точки зрения оценить убийство сына Тарасом Бульбой?»
– Однозначных вопросов и быть не может. Гоголь как настоящий литератор задает эти вопросы. Чем хороша настоящая литература? Многое заканчивается на таких полутонах. И мы как соавторы – а читая художественное произведение, мы являемся соавторами – должны оказаться как минимум на одной высоте с автором, чтобы его хотя бы понять.
Здесь Гоголь предлагает своего рода выбор того, что произошло с сыном Тараса Бульбы. К сожалению, он становится на прямой путь предательства. Существует экранизация «Тараса Бульбы», замечательная, но, к сожалению, тоже не совсем духовное прочтение. Там есть момент, что между Андрейкой и панночкой возникает любовь и даже рождается чадо, а чадо – это уже попущение Божие, ведь Бог дает детей. То есть там совсем другой смысл, который уводит немножко от сути. А по Гоголю, это страсть и прямое предательство. Это предательство отца, матери, родной семьи, предательство веры.
Мы не зря говорили о религиозной войне. Став сознательно на сторону врага, Андрей оказывается для Тараса тоже врагом. Причем Тарас Бульба прекрасно понимает, что это его сын. И эта трагедия убийства не просто так легла на совесть самого Тараса, но он как раз занимает твердую позицию – это война до конца.
– Давайте продолжим наш разговор о произведениях Николая Васильевича.
– Это духовная мука Гоголя, когда он понимает, что, несмотря на всю художественную высоту, духовный смысл его произведений не совсем понятен… Он работает над произведением, которое называет «Выбранные места из переписки с друзьями».
Причем выход книги в свет в XIX веке был событием мирового масштаба, это все равно что сегодня построить атомную электростанцию на берегу океана. Это большой авторский творческий ресурс. Гоголь был живым классиком, начальник русской литературы в свое время. Тогда в литературу только-только начинали входить такие писатели, как Тургенев, Достоевский. Все они смотрели на Гоголя снизу вверх. И вдруг стало известно: автор популярных произведений пишет новую книгу. Конечно, интерес был колоссальный.
Эта книга выходит. Эту книгу читают. И эту книгу ругают. Причем ругают не только люди, которые являлись недругами Гоголя, а ругают даже его друзья, по сути его соратники. Это эпистолярный жанр – письма. Но в письмах он очень глубоко раскрывается. Адресаты этих писем конкретны. Например, адресат письма губернаторше реальное историческое лицо – Смирнова-Россет, жена калужского губернатора.
Или в главе «О нашем духовенстве» Гоголь говорит, что, конечно, и «чернухи» хватало, но он показывает положительный пример наших пастырей. И почему он должен об этом молчать?
Тогда уже раздавался призыв менять конституционный строй, саму монархию – эти идеи бродят уже начиная с декабристов. Для Гоголя все эти перемены, не благословленные Церковью, не освещенные Христовым светом, не имеют под собой никакой почвы.
В этой книге у него есть статья «Надо любить Россию». А как ты можешь любить Россию? Только зная ее культуру, историю, ее народ. А многие люди, которые звали тогда ввысь – но что-то многое вышло вкось, – не знали ни культуры, ни истории и не хотели знать.
Для Гоголя было мукой сознание того, что формально православная Россия, то есть читающая публика, российское общество не знает православия как такового. Это было для него мучительно, почему он и пишет «Размышления о Божественной литургии». Почему здесь, в «Выбранных местах», дает эти статьи. Кстати, заканчивается книга статьей «Светлое воскресенье».
Гоголь, при всем унынии, которое часто нападало на него, при всех страшных картинах, верит не в букву закона, а в благодать спасения. И это мы можем соотнести со «Словом о законе и благодати» митрополита Илариона – произведением, с которого начинается и русская литература, и русское богословие.
Само духовенство восприняло эту книгу тоже неоднозначно. Например, архимандрит Федор из Троице-Сергиевой лавры положительно отозвался об этой книге. Святитель Иннокентий (Борисов) тоже положительно. Но наиболее точно охарактеризовал эту книгу святитель Игнатий (Брянчанинов), который тогда был еще в сане архимандрита. Он пишет, что в этой книге свет смешан с тьмой. Сам Гоголь считал, что для святителя Игнатия как для монаха непонятны какие-то мирские вещи. Но здесь Николай Васильевич, пожалуй, действительно ошибался, потому что до монашества святитель Игнатий присутствовал в свете, прекрасно знал его, сам был одарен.
Здесь святитель имеет в виду дело проповеди Гоголя, который в этой книге не только исповедовался в каких-то вещах, но учил, наставлял. А проповедь все-таки не дело светского человека. И наставлял Гоголь с высоты. Это была, конечно, не его высота, а высота евангельская и святоотеческая. Но это было непонятно его современникам. Конечно, мы с вами понимаем, как мы воспринимаем, когда кто-то пытается нас учить: «Учить можете кого угодно, но не меня. Я все прекрасно знаю, я хороший» ,– и так далее. Сегодня эту книгу надо читать, она должна быть настольной книгой любого верующего человека и патриота России. То острое противостояние сегодня стало намного мягче, и даже тон Гоголя, который тогда казался надменным, как бы немного утерял ту остроту.
Что же есть светлого в этой книге? То, что Гоголь основывает свои суждения на святых отцах: это его любимое чтение. Народными писателями XIX века мы считаем Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Но историки литературы говорят об обратном. Народными писателями были святители Тихон Задонский и Димитрий Ростовский. Вся грамотная Россия читала их. И в количественном отношении духовной литературы было больше, чем светской. Поэтому Гоголь читает не только тех древних отцов, о которых мы сказали в самом начале передачи, но ему известны и произведения Филарета Московского, и Иннокентия Борисова, того же самого Тихона Задонского, которого он безмерно любил и очень часто читал. И духовная красота этой книги как раз в этом и состоит. Гоголь осмысляет и общественную, и бытовую жизнь России с высоты православной веры.
К сожалению, есть у него горькая фраза, которая не потеряла актуальности и в наши дни, – это фраза о Церкви. Гоголь говорит о том, что Церковь как источник жизни, как созданную для жизни мы так и не ввели в нашу сегодняшнюю жизнь. Насколько актуальны эти слова! Гоголь бьет в набат, по сути дела. Потом за ним это будет делать и Достоевский. Попытается сделать Толстой, но уйдет совсем в другую сторону. Такие же голоса раздавались и со стороны самой Церкви. Говорит и святитель Игнатий (Брянчанинов). Феофан (Говоров) прямо говорит, что еще одно-два поколения – и будет беда в России. И действительно, мы знаем: в 1917 году революция в России. Иоанн Кронштадтский говорил: «Россия, будь такой, какой ты нужна Христу». И это звучало накануне его смерти, то есть в начале XX века.
Поэтому это непонятое произведение, и, может быть, непонятное до сих пор. Оно издано, надо обязательно его посмотреть. Можно подискутировать, это не страшно, но знать необходимо.
Что касается духовных исканий Николая Васильевича, конечно, они приводили не только к муке, но и давали утешение. Это единственный из наших литераторов, кто жил, наверно, как монах, не давая монашеских обетов целомудрия, нестяжания и послушания. Первый обет – целомудрие. У нас нет никаких свидетельств о какой-то любовной связи Николая Васильевича. Нет, не найдем. Обет нестяжания виден из его жизни: по слову евангельскому, он не имел где главу приклонить. Он и умер на квартире у своего друга графа Толстого. Послушание мы видим, именно послушание Матери Церкви. И здесь пробы с католицизмом уходят далеко-далеко, это уже истинный христианин.
У Гоголя были духовные наставники. Кстати, их тоже оболгали. Например, отец Матфей Константиновский, ржевский протоиерей. Граф Толстой, в доме которого преставился ко Господу Николай Васильевич, был человеком достаточно набожным, религиозным. Когда-то он был даже губернатором Твери, где они и познакомились с Гоголем. Протоиерей Матфей много духовно окормлял Гоголя, особенно в конце жизни. Гоголь лично был знаком со старцем Макарием, который не взял его в скит, когда он хотел остаться в Оптиной пустыни. Тем не менее переписка со старцем известна. Поэтому здесь не самочиние и не какое-то вольное прочтение, а глубокие корни в христианстве самого Николая Васильевича.
Отсюда, конечно, и его призыв, который он повторяет вслед за Пушкиным. Чем должно быть искусство? Чем должна быть настоящая литература? Какое это служение? Это служение пророческое. Как пророки возвещали Божью истину, которых тоже не всегда слушали. Величайшего пророка Исаию, как мы говорим, ветхозаветного евангелиста (настолько чудесно он смог предобразить приход Мессии), не просто в чем-то укоряли, как Гоголя, а убили, перепилили деревянной пилой. Конечно, критика, даже конструктивная, иногда не принимается обществом. Поэтому досталось и Николаю Васильевичу.
Сегодня острота этой проблемы во многом сглажена, и мы просто обязаны перечитать классиков и, может быть, с этой точки зрения посмотреть: а насколько был не прав Николай Васильевич?
Кстати, «Выбранные места из переписки с друзьями» послужили для русской литературы и русской национальной мысли и камнем преткновения, и неким «камнем оттолкновения». Потому что на это произведение Белинский пишет свое известное «Письмо к Гоголю». Сначала пишет в России, но здесь цензура: много не напишешь. Потом уезжает в Германию, и в это время за границей находится и Гоголь. Представляете, два русских литератора о чем-то спорят за границей – кто это будет читать? Конечно, никто. И там Белинский, конечно, на Гоголя нападает. Там есть прямая брань: критик говорит, что и талант у Гоголя иссяк, что он вообще уже не тот писатель, не в ту сторону идет и вообще литература должна бороться с православием, а он тут призывает к нему. Литература должна бороться с самодержавием и народностью, то есть кодом русской цивилизации, а Гоголь, наоборот, это защищает.
И Николай Васильевич ответил на письмо Белинского достаточно жестко, но разорвал его. Почему оно известно? Сегодня его склеили, и есть возможность прочитать. В советской школе изучали письмо Белинского к Гоголю, но не читали ответ Гоголя. Обязательно надо знать этот ответ. Сегодня есть такая возможность. Николай Васильевич просто раскладывает все по полочкам. Но почему он не отсылает этот жесткий ответ? Белинский не просто так находится за границей, он лечится. Гоголь поступает как настоящий христианин. Для Белинского, больного чахоткой, любое моральное перевозбуждение чревато смертью. Конечно, такое письмо Гоголя «неистового Виссариона» возбудило бы. И Николай Васильевич не посылает это письмо, а отправляет мягкое, примирительное: «Ты прав, и я прав. И я где-то не прав, и у тебя есть какие-то стороны…» То есть мы видим, что даже в обыденной жизни та высокая планка была осуществлена Николаем Васильевичем.
– Думаю, телезрители согласятся, что очень важно говорить об этом и рассматривать литературные произведения Гоголя именно под таким углом.
Можно сказать несколько слов о другом ключевом для школьной программы произведении. К сожалению, не все осиливают чтение «Тараса Бульбы», но «Шинель», по крайней мере, как помню я, могут осилить все. Наверное, стоит, хотя бы немного, обратить на это внимание.
– «Шинель» входит в цикл «Петербургские повести». Это название было дано не самим Гоголем (как «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород»), а используется для объединения произведений в цикл. Здесь очень важно то, о чем мы постоянно говорим в наших передачах: «Не ищите себе сокровищ на земле, где моль и ржа и воры подкапывают. Ищите себе сокровищ на небе, где ни вора, ни ржи. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Это лейтмотив данного произведения.
С легкой руки Белинского, потом Чернышевского, Добролюбова до сих пор в школе это произведение изучают как историю «маленького человека» Башмачкина, жертвы николаевского режима. Но Акакий Акакиевич в первую очередь жертва собственной никчемности. И он будет таким при любом режиме. Режим здесь ни при чем. Очень важно увидеть в этом произведении, что для самого Башмачкина не существует духовного неба, все его сокровища именно здесь, не зря он столько времени уделяет шинели. Есть замечательная фраза Гоголя: «Вечная идея будущей шинели». Не «вечная жизнь», не «будущая жизнь», а «вечная идея будущей шинели». Такая «вечная идея» есть у каждого из нас: у кого-то это машина, у кого-то дом, еще какая-то страсть.
Когда Акакий Акакиевич отошел ко Господу, по Петербургу пошел слух о призраке, похожем на Акакия Акакиевича, который срывает с прохожих шинели. Эта «вечная идея будущей шинели» не дает ему покоя и в будущей жизни. И где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И даже там, на духовном небе, он устремляет свой взор сюда – это же ад.
Еще один важный постулат – Гоголь впервые обращает внимание на «маленького человека» и заставляет нас даже любить такую никчемность. Разве можно действительно любить такую никчемность? «Можно», – говорит Гоголь. Он прямо пишет о том, что любить Родину можно, только сострадая ей. А эта частная беда Акакия Акакиевича – одна из болевых точек нашей Родины. И сострадая ей, будешь любить ближнего своего, а любя брата своего, будешь любить Бога. Это прямая заповедь Самого Христа. Как пишет в своем послании апостол Иоанн Богослов: «Имеем от Него заповедь – любить Бога через своего ближнего».
Скорее всего, Достоевский сказал известную фразу: «Все мы вышли из гоголевской “Шинели”». И он точно вышел из «Шинели», потому что он сострадает своим героям, любит их. Даже наш первоиерарх владыка Антоний (Храповицкий) на уроках пастырского богословия советовал студентам духовных школ читать произведения Достоевского как произведения любви. Поэтому знать сегодня об этом мне кажется небесполезным.
– В оставшееся время есть возможность сказать пожелание нашим телезрителям в рамках сегодняшней темы.
– Хотелось бы пожелать всем нам, дорогие телезрители, моральной стойкости, потому что без отличения добра от зла, без духовных основ нашей жизни не будет того преображения России, к которому мы так сегодня стремимся. Призыв Гоголя не услышали, как не послушали Ильина, Аксакова, Киреевского, а послушали призыв абсолютно других людей, который привел к смуте, крови, революции. И хочется, чтобы через 150 лет призыв Николая Васильевича, как и многих других классиков, был все-таки услышан.
Какой это призыв? Это призыв любить нашу Родину, беззаветно служить нашему Отечеству. Любить нашу веру, служить Матери Церкви и, конечно, благоустроять град своей собственной души, чтобы быть здоровой единицей этого общества.

Детство и юность
Раннее творчество
Вторая половина жизни и творчества
«Размышления о Божественной Литургии»
Последние годы жизни
Введение
Наследие Гоголя
Гоголь Николай Васильевич (1809-1852)
Заключение.Гоголь и православие
Список литературы
1.Введение
Церковь, государство, система образования должны помочь нашему народу вернуться в Православие. Официально провозглашен светский характер школы, но ведь школа должна открыть детям, какой след оставило Православие в культуре и истории нашего народа. Есть равенство религий перед законом, но ни в коем случае нет равенства религий перед культурой, перед историей человечества, тем более перед культурой и историей Киевской Руси. Государство, школа должны быть заинтересованы в том, чтобы дети не были иностранцами в своей стране. Мы должны по-православному рассматривать историю христианской живописи, церковной архитектуры.
Обращение к нашим духовным корням поможет нам сегодня обрести почву под ногами, восстановить духовный стержень нашего народа, поможет нам вернуться на свою дорогу на путях истории.
2.Наследие Гоголя
В этом контексте необычайно важно для нас духовное наследие Н. В. Гоголя. "Гоголь, - по словам прот. В. Зеньковского, - первый пророк возврата к целостной религиозной культуре, пророк православной культуры, ... он ощущает как основную неправду современности ее отход от Церкви, и основной путь он видит в возвращении к Церкви и перестройке всей жизни в ее духе".
Духовное состояние современного уже нам западного общества - исполнение пророческих слов Н.В. Гоголя в адрес Западной Церкви: "Теперь, когда человечество стало достигать развития полнейшего во всех своих силах... Западная Церковь только отталкивает его от Христа: чем больше хлопочет о примирении, тем больше вносит раздор". Действительно, примирительное шествие Западной Церкви навстречу миру привело в итоге к выхолащиванию Духа в Западной Церкви, к духовному кризису западного общества.
Н.В. Гоголь в своих общественных взглядах не был ни западником, ни славянофилом. Он любил свой народ и видел, что он "сильнее других слышит Божью руку".
Беда современного Гоголю общества ему видится в том, что "Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь". (Эти слова, увы, актуальны и сегодня). "Церковь одна в силах разрешить все узлы, недоумения и вопросы наши; есть примиритель всего внутри самой земли, который покуда еще не всеми видим - наша Церковь". Эта обеспокоенность Гоголя о судьбах общества, удаленного от Церкви, подвигает его к труду над книгой, раскрывающей внутренний, сокровенный смысл Божественной Литургии и имеющей своей целью приблизить общество к Церкви.
Н. В. Гоголь - одна из самых аскетических фигур нашей литературы. Вся его жизнь свидетельствует о восхождении к высотам духа; но знали об этой стороне его личности только ближайшие к нему духовные лица и некоторые из друзей. В сознании большинства современников Гоголь представлял собой классический тип писателя-сатирика, обличителя общественных и человеческих пороков.
Другого Гоголя, последователя святоотеческой традиции в русской литературе, православного религиозного мыслителя и публициста, автора молитв, современники так и не узнали. За исключением "Выбранных мест из переписки с друзьями" духовная проза при жизни его оставалась неопубликованной.
Правда, последующие поколения уже смогли познакомиться с ней, и к началу XX века духовный облик Гоголя был в какой-то степени восстановлен. Но здесь возникла другая крайность:"неохристианская" критика рубежа веков (и более всего книга Д. Мережковского "Гоголь. Творчество, жизнь и религия") выстроила духовный путь Гоголя по своей мерке, изображая его болезненным фанатиком, мистиком со средневековым сознанием, одиноким борцом с нечистой силой, а главное - полностью оторванным от Православной Церкви и даже противопоставленным ей, - отчего образ писателя предстал в ярком, но искаженном виде.
Мистик и поэт русской государственности, Гоголь был не только реалистом, сатириком, но и религиозным пророком, все литературные образы которого глубокие символы
«Прав был этот ужасный хохол»
(В.В. Розанов «Апокалипсис нашего времени»).
«Великое незнание России посреди России»
(Н.В. Гоголь «Выбранные места из переписки с друзьями»).
1 апреля \ 18 марта 2006 года исполнилось 197 лет со дня рождения, пожалуй, наиболее выдающегося русского писателя, политического, религиозного и социального мыслителя Н.В. Гоголя (1809-1852).
Чем нам сегодня интересен Гоголь, правильно ли мы его понимаем, или по-прежнему, его считаем сатириком-критиком государственной власти и порядков, а не наоборот?
По сути дела, творчество и жизнь Гоголя до сих пор является непонятным для многих литературоведов, философов и историков русской мысли. За исключением немногих исследователей творчество и взгляды Гоголя является непонятым, а между тем без религиозного рассмотрения его взглядов трудно увидеть истинную сущность идей писателя.
Н.В. Гоголь был несправедливо зачислен революционной, большевистской, либерально западнической мыслью, выражающую сущность идей передовой интеллигенции, прежде всего, В.Г. Белинским, в основатели реализма, натуральной школы, сатириком, критиком самодержавия и государственности. А между тем, истинный смысл многих его сочинений (в том числе художественных, где во многом присутствуют сатирические нотки), к сожалению, так и остался подобным деятелям не понятным. Русский писатель и философ был не только реалистом, сатириком, а мистиком и религиозным пророком, все литературные образы которого глубокие символы.
И только сегодня, благодаря работам В. Воропаева, И. Виноградова, И. Золотусского, а также статьям М.О. Меньшикова мы видим иного Гоголя:религиозного пророка, уровня бл. Августина, Б. Паскаля, Д. Свифта, С. Кьеркегора, предтечу Ф.М. Достоевского, государственника и монархиста.
3.Гоголь Николай Васильевич(1809-1852)
3.1 Детство и юность
Жизнь Николая Гоголя с первого его момента была устремлена к Богу. Мать его, Мария Ивановна, дала обет перед Диканьским чудотворным образом святителя Николая, если будет унее сын, назвать его Николаем, - и просила священника молиться до тех пор, пока не сообщат о рождении ребенка и не попросят отслужить благодарственный молебен. Крещен младенец был в Спасо-Преображенской церкви в Сорочинцах. Мать его была женщиной набожной, усердной паломницей.
Родился Н.В. Гоголь 20 марта \ 1 апреля 1809 года в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии. Происходил из помещиков среднего достатка. Она принадлежала к старым казацким родам. Семья была довольно благочестива и патриархальна. Среди предков Гоголя были люди духовного звания:прадед по отцу был священником; дед закончил Киевскую Духовную Академию, а отец - Полтавскую Духовную Семинарию.
Детские годы провёл в имении родителей Васильевке. Сам край был овеян легендами, поверьями, историческими преданиями, будоражившими воображение. Рядом с Васильекой располагалась Диканька (к которой Гоголь приурочил происхождение своих первых повестей).
По воспоминаниям одного из гоголевких однакашников, религиозность и склонность к монашеской жизни были заметны в Гоголе «ещё с детского возраста», когда он воспитывался у себя на родном хуторе в Миргородском уезде и был окружён людьми «богобоязливыми и вполне религиозными». Когда впоследствии писатель готов был «заменить свою светскую жизнь монастырём», он лишь вернулся к первоначальному своему настроению.
Понятие о Боге запало в душу Гоголя с раннего детства. В письме к матери 1833 года он вспоминал: "Я просил Вас рассказать мне о Страшном Суде, и Вы мне, ребенку, так хорошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешных, что это потрясло и разбудило во мне чувствительность. Это заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли".
Первым сильным испытанием в жизни юного Николая была смерть отца. Он пишет матери письмо, в котором отчаяние смиряется глубокой покорностью воле Божией: "Я сей удар перенес с твердостию истинного христианина... Благословляю тебя, священная вера! В тебе только я нахожу источник утешения и утоления своей горести!.. Прибегните так, как я прибегнул, к Всемогущему".
Первоначальное образование будущий писатель получил дома, «от наёмного семинариста».
В 1818-19 гг. будущий писатель обучался вместе с братом в Полтавском уездном училище, летом
1820 г. готовился к поступлению в Полтавскую гимназию.
В 1821 году он был принят в только что открывшуюся Гимназию высших наук в Нежине (лицей). Обучение здесь, в соответствии с поставленной императором Александром I задачей борьбы с европейским вольнодумством, включало в себя обширную программу религиозного воспитания. Домовая церковь, общий духовник, общие утренние и вечерние молитвы, молитвы перед и после окончания уроков, закон Божий два раза в неделю, каждый день полчаса перед классными занятиями чтение священником Нового Завета, ежедневное заучивание наизусть по 2-3 стиха из Писания, а также строгая дисциплина, таким был определённый Уставом гимназии почти «монастырский» быт её учащихся, многими чертами которого Гоголь воспользовался впоследствии при описании бурсацкого обихода в «Тарасе Бульбе» и «Вии».
3.2 Раннее творчество
После переезда в столицу Гоголь погружается в литературную жизнь. Но несмотря на занятость, в нем проглядывает постоянное недовольство суетой, желание иной, собранной и трезвенной жизни. В этом смысле очень показательны раздумья о посте в "Петербургских записках 1836г.":"Спокоен и грозен Великий Пост. Кажется, слышен голос: "Стой, христианин; оглянись на жизнь свою". На улицах пусто. Карет нет. В лице прохожего видно размышление. Я люблю тебя, время думы и молитвы. Свободнее, обдуманнее потекут мои мысли... - К чему так быстро летит ничем незаменимое наше время? Кто его кличет к себе? Великий Пост, какой спокойный, какой уединенный его отрывок!"
Если брать нравоучительную сторону раннего творчества Гоголя, то в нем есть одна характерная черта:он хочет возвести людей к Богу путем исправления ИХ недостатков и общественных пороков - то есть путем внешним.
В декабре 1828 года Гоголь приехал в Петербург с широкими (и смутными) планами о благородном труде на благо Отечества. Стеснённый в материальных средствах, пробует свои силы в качестве чиновника, актёра, художника, зарабатывает на хлеб уроками. В печати Гоголь дебютировал дважды. Сначала как поэт: вначале написал стихотворение «Италия» (без подписи), а затем поэму «Ганц Кюхельгартен». Последняя получила в журналах отрицательные рецензии, после чего Гоголь постарался сжечь все имеющиеся экземпляры тиража.
Второй дебют был в прозе и сразу поставил Гоголя в число первых литераторов России. В 1831-32гг. вышел в свет цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». Благодаря этому успеху, Гоголь знакомится с В.А. Жуковским, П.А. Плетнёвым, бароном А.А. Дельвигом, А.С. Пушкиным. Своими повестями он стал известен при дворе. Благодаря Плетнёву, бывшему воспитателю Наследника, в марте 1831 года Гоголь вступил в должность младшего учителя истории Патриотического института, находившегося в ведении императора Александра Феодоровны. В Москве Гоголь знакомится с М.П. Погодиным, семейством Аксаковых, И. И. Дмитриевым, М.Н. Загоскиным, М.С. Щепкиным, братьями Киреевскими, О.М. Бодянским, М.А. Максимовичем.
В истории известны случаи, когда одной удачной фразой, всего несколькими словами, выигрывались споры или решались государственные дела. Так, жители одного античного города, решив установить статую, позвали двух известных скульпторов: один из них долго описывал, какой красивой должна быть статуя; а другой поднялся на трибуну и произнес: «Граждане, все, что он только что сказал, я обязуюсь создать». И выиграл. Однако были случаи, когда одно неправильное слово разрушало прекрасный замысел…
Выход «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя вызвал жаркие споры и бурю недоумения и непонимания у современников.
Например, так писал о книге Н.В. Гоголя: «
Можно сказать, что она издает из себя и свет и тьму. Религиозные его понятия неопределенны, движутся по направлению сердечного вдохновения неясного, безотчетливого, душевного, а не духовного. Он писатель, а в писателе непременно «от избытка сердца уста глаголют», или: сочинение есть непременная исповедь сочинителя, по большей части им не понимаемая, а понимаемая только таким христианином, который возведен Евангелием в отвлеченную страну помыслов и чувств в ней различил свет от тьмы; книга Гоголя не может быть принята целиком и за чистые глаголы Истины. Тут смешение; тут между многими правильными мыслями много неправильных.
Желательно, чтоб этот человек, в котором заметно самоотвержение, причалил к пристанищу Истины, где начало всех духовных благ.
По этой причине советую всем друзьям моим заниматься по отношению к религии единственно чтением Святых Отцов, стяжавших очищение и просвещение по подобию Апостолов, потом уже написавших свои книги, из которых светит чистая Истина и которые читателям сообщают вдохновения Святого Духа. Вне этого пути, сначала узкого и прискорбного для ума и сердца,- всюду мрак, всюду стремнины и пропасти!»
Мы снова беседуем с профессором филологического факультета, д.ф.н., специалистом по риторике и теории языка о риторических приемах и ошибках, их роли в нашей повседневной жизни.
– Александр Александрович, почему «Выбранные места из переписки с друзьями» вызвали такое неприятие даже у близких друзей Гоголя? Были ли для этого объективные причины?
– Мне кажется, что в тексте «Выбранных мест из переписки с друзьями» ничего такого, что говорило бы о некоторой его «неадекватности» и сложном психологическом состоянии, нет. Текст прекрасно написан, но дело в том, что Гоголь, очевидно, допустил некоторые риторические ошибки. Подобные риторические ошибки предполагают отрицательную реакцию читателя. Возьмем гоголевский текст «Нужно любить Россию» из «Выбранных мест из переписки с друзьями». Как Гоголь обращается к читателю? Он говорит «вы », «не спастись вам », «не полюбивши Россию, не полюбить вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам ».
– Может быть, это обращение – следствие того, что это письмо изначально обращено к конкретному человеку…
– Может быть. Но в любой подобной ситуации, когда человек высказывает некоторое поучение, ему следует следить за местоимениями, которые он употребляет. Местоимения и личные глагольные формы являются важнейшим инструментом формирования как образа аудитории – адресата речи, так и и образа автора. Чтобы избежать этих неприятных, отрицательных ассоциаций, опытные проповедники используют риторическую фигуру, которая называется иногда эналлагой местоимения. Если бы Н.В. Гоголь вместо слова «вам» употребил слово «нам» или даже слово «мне», то аргументация сохранила бы свою убедительность, а обращение предстало бы более мягким и тактичным. Получается так, что Гоголь поучает своего адресата, а поскольку письма были опубликованы, адресатом оказывается не конкретное лицо, которое, может быть, и ожидало такого поучения, но широкий круг читателей.
– То есть получается, что он отделяет себя ото всех…

– Да, в глазах читателя получается, что автор претендует быть неким учителем жизни. А какое право на подобную роль Н.В. Гоголь имеет? Он не священник, но и священники обычно так не обращаются к пастве. Когда опытный проповедник строит поучение, он старается смягчить остроту так называемых дейктических элементов речи – средств обозначения участников общения: личных местоимений, личных форм глагола, обозначающих адресата речи, – обобщая их и включая самого себя в состав поучаемых. Это просто. Но такие простые приемы и создают положительное отношение к автору.
– Можно сказать, что раздражение гоголевским текстом вызвано в основном несоблюдением такого простого риторического правила?
– Мне кажется, это одна из риторических ошибок, которые допустил Н.В. Гоголь. Такие ошибки довольно многочисленны, я просто постарался привести показательный пример. Надо сказать, что когда я предлагал для разбора и оценки этот текст ученикам, они воспринимали его так же, как современники Гоголя.
– Но в то время, когда учился Гоголь, риторику изучали?..
– В учебных риториках того времени, кажется, нет указаний на подобные ошибки, но вот , кстати говоря, несколько лет преподававший риторику, никогда их не допускал.
– Может быть, ошибка была связана с отсутствием в то время возможностей для публичной речи?.. Не было практики, и поэтому фигуры воспринимались больше как украшение…
– Практики было достаточно – священники произносили проповеди, ораторы произносили публичные речи, журналисты писали статьи… Иные допускали риторические ошибки, иные не допускали. Люди во все времена поступают правильно и ошибаются примерно одинаковым образом. Мы ошибаемся особенно часто, когда охвачены порывом усовершенствовать человечество.
– А есть еще какие-то распространенные ошибки, помимо этой, которые вы учите своих студентов избегать в публичной речи?
– Разумеется. Во-первых, ритор должен всегда помнить, что всякая речь содержит одну и только одну мысль, лежащую в ее основании. Полезно также помнить, что всякое публичное высказывание имеет начало, середину и, особенно существенно, конец. Если мы стремимся кого-либо в чем-либо убедить аудитории, наши доводы должны быть убедительны не для нас, а для тех, кого мы убеждаем. Когда мы обращаемся ко многим с устной публичной речью, полезно помнить, что мы не беседуем с приятелем. Устная публичная речь отличается от разговорной своей литературной формой. С публичной речью мы обращаемся к людям, согласившимся слушать нас и тем самым оказавшим нам доверие и внимание, а потому справедливо ожидающим и от нас уважения. Это и есть первые правила риторики. И, наконец, главное в любой речи не то, что сказал оратор или писатель, а то, о чем он предпочел умолчать.
– А какая из этих ошибок труднее всего изживается?
– Увы, все они все изживаются с большим трудом – тщательной подготовкой каждого публичного выступления, практикой, критическим отношением к своим мыслям и словам, навыком продумывать и ценить каждое сказанное слово.
. ПОЛЮБИТЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ? ЧТОБЫ ПРИДТИ К БОГУ
И ЭТОТ ПУТЬ - ЧЕРЕЗ РОССИЮ
Без любви к Богу никому не спастись, а любви к Богу у вас нет. В монастыре ее не найдете; в монастырь идут одни, которых уже позвал туда Сам Бог. Без воли Бога нельзя и полюбить Его. Да и как полюбить Того, Которого никто не видал? Какими молитвами — и усильями вымолить у Него эту любовь? Смотрите, сколько есть теперь на свете добрых и прекрасных людей, которые добиваются жарко этой любви и слышат одну только черствость да холодную пустоту в душах. Трудно полюбить того, кого никто не видал. Один Христос принес и возвестил нам тайну, что в любви к братьям получаем любовь к Богу. [ 118 ] Стоит только полюбить их так, как приказал Христос, и сама собой выйдет в итоге любовь к Богу Самому. Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям.
Но как полюбить братьев, как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны и так в них мало прекрасного! Как же сделать это? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что ни есть в России. К этой любви нас ведет теперь Сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней состраданья. А состраданье есть уже начало любви. Уже крики на бесчинства, неправды и взятки — не просто негодованье благородных на бесчестных, но вопль всей земли, послышавшей, что чужеземные враги вторгнулись в бесчисленном множестве, рассыпались по домам и наложили тяжелое ярмо на каждого человека; уже и те, которые приняли добровольно к себе в домы этих страшных врагов душевных, хотят от них освободиться сами, и не знают, как это сделать, и все сливается в один потрясающий вопль, уже и бесчувственные подвигаются. Но прямой любви еще не слышно ни в ком, — ее нет также и у вас. Вы еще не любите Россию: вы умеете только печалиться да раздражаться слухами обо всем дурном, что в ней ни делается, в вас все это производит только одну черствую досаду да уныние. Нет, это еще не любовь, далеко вам до любви, это разве только одно слишком еще отдаленное ее предвестие. Нет, если вы действительно полюбите Россию, у вас пропадет тогда сама собой та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многих честных и даже весьма умных людей, то есть, будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать для России и будто они ей уже не нужны совсем; напротив, тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогуща и что с ней возможно все сделать. Нет, если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей; не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдете, — последнее место, какое ни отыщется в ней, возьмете, предпочитая одну крупицу деятельности на нем всей вашей нынешней, бездейственной и праздной жизни. Нет, вы еще не любите Россию. А не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам.
1844 г. Гоголь (из письма к гр. А.П.Т.....му)
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ГОГОЛЯ НАДО ПРЕДСТАВИТЬ
ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ - НЕ ЛЮБИТЬ РОССИЮ
какой ход мыслительный Гоголя можно понять
если допустить обратное - не любить Россию
и не служить ей - и тогда Австрия и Польша делят
Украину которой самой себя не отстоять и опыт уже был
Это уничтожение всего украинского и об этом писал
еще а XYI веке Иван Вишенский что польские католические
священники менее терпимы более властны:
* "прелщеные от диаволского слуги и лжепророка Махомета. турки честнейшие ест пред богом в суде, ...нежели крещеные ляхи"
* "... все они блаженной науке сопротивницы - горды, величавы, пишны, надуты, ... велеречивые, самохвалны фарисеи, клеветники, лжелюбцы"
* "поганских наук блядословие"
* "... и в художестве риторскаго наказания и ремесла (эллино-или-латиномудрных во причастии общения несм был ими навык что от хитродиалектических силогизм темже и ни мудрования хитрословного " (10);
* "... изучивши граматыку..., рыторычку тогда уж... дмут, даскалами и мудрыми ся зовут, проповедуют, учат"
* "яко ныне латина, здергши хвалу с Бога, и нак папежа вкладают, мовячи: попежкое веры, рымское веры, деснократци диаволские, евангелское веры, нововыкрещенское веры, суботское веры"
* «который з вас, в мирском житии будучи., алчных прекормил, жаждных напоил, странных успокоил, нагих одел, в темницах навежал..., алчных оголодневаете, бедных подданных, той же образ божий, что и вы, носячих... сами пресычаетеся, а сироты церковные алчут и жаждут...»
и что надо держаться только России - это верно
т.к. основное качество русского человека как отмечает
Николай Васильевич Гоголь был глубоко верующий человек, одно из его практически неизвестных произведений причем далеко не художественное имеет прямое отношение к православию и церкви (Размышление о божественной литургии), не редко и в переписки с друзьями он уделял внимание вере и отношению к богу. А вот приведенное ниже письмо это его ответ Белинскому.
Из школьного курса литературы все знают, какой уничижительной критике подверг В. Г. Белинский Гоголя за книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Но неотправленный ответ Гоголя почти не известен современному читателю. И не удивительно: это письмо впервые было опубликовано почти шестьдесят лет назад в полном собрании сочинений Гоголя и почти никогда не упоминалось ни в научной, ни в научно-популярной литературе. Мы решили восполнить этот пробел, опубликовав наиболее значимые выдержки из этого письма.
С чего начать мой ответ на ваше письмо? Начну его с ваших же слов: «Опомнитесь, вы стоите на краю бездны!». Как далеко вы сбились с прямого пути, в каком вывороченном виде стали перед вами вещи! В каком грубом, невежественном смысле приняли вы мою книгу! Как вы ее истолковали! О, да внесут святые силы мир в вашу страждущую, измученную душу! Зачем вам было переменять раз выбранную, мирную дорогу? Что могло быть прекраснее, как показывать читателям красоты в твореньях наших писателей, возвышать их душу и силы до пониманья всего прекрасного, наслаждаться трепетом пробужденного в них сочувствия и таким образом прекрасно действовать на их души? Дорога эта привела бы вас к примирению с жизнью, дорога эта заставила бы вас благословлять всё в природе. Что до политических событий, само собою умирилось бы общество, если бы примиренье было в духе тех, которые имеют влияние на общество. А теперь уста ваши дышат желчью и ненавистью. Зачем вам с вашей пылкою душою вдаваться в этот омут политический, в эти мутные события современности, среди которой и твердая осмотрительная многосторонность теряется? Как же с вашим односторонним, пылким, как порох, умом, уже вспыхивающим прежде, чем еще успели узнать, что истина, как вам не потеряться? Вы сгорите, как свечка, и других сожжете.
Своекорыстных же целей я и прежде не имел, когда меня еще несколько занимали соблазны мира, а тем более теперь, когда пора подумать о смерти. Никакого не было у меня своекорыстного умысла. Ничего не хотел я ею выпрашивать. Это и не в моей натуре. Есть прелесть в бедности. Вспомнили б вы по крайней мере, что у меня нет даже угла, и я стараюсь только о том, как бы еще облегчить мой небольшой походный чемодан, чтоб легче было расставаться с миром. Вам следовало поудержаться клеймить меня теми обидными подозрениями, какими я бы не имел духа запятнать последнего мерзавца. Это вам нужно бы вспомнить. Вы извиняете себя гневным расположением духа. Но как же в гневном расположении духа вы решаетесь говорить о таких важных предметах и не видите, что вас ослепляет гневный ум и отнимает спокойствие?
Вы говорите, кстати, будто я спел похвальную песнь нашему правительству. Я нигде не пел. Я сказал только, что правительство состоит из нас же. Мы выслуживаемся и составляем правительство. Если же правительство огромная шайка воров, или, вы думаете, этого не знает никто из русских? Рассмотрим пристально, отчего это? Не оттого ли эта сложность и чудовищное накопление прав, не оттого ли, что мы все кто в лес, кто по дрова? Один смотрит в Англию, другой в Пруссию, третий во Францию…
Вы говорите, что спасенье России в европейской цивилизации. Но какое это беспредельное и безграничное слово. Хоть бы вы определили, что такое нужно разуметь под именем европейской цивилизации, которое бессмысленно повторяют все. Тут и фаланстерьен, и красный, и всякий, и все друг друга готовы съесть, и все носят такие разрушающие, такие уничтожающие начала, что уже даже трепещет в Европе всякая мыслящая голова и спрашивает невольно, где наша цивилизация? И стала европейская цивилизация призрак, который точно никто покуда не видел, и ежели пытались ее хватать руками, она рассыпается. И прогресс, он тоже был, пока о нем не думали, когда же стали ловить его, он и рассыпался.
Отчего вам показалось, что я спел тоже песнь нашему гнусному, как вы выражаетесь, духовенству? Неужели слово мое, что проповедник восточной Церкви должен жизнью и делами проповедать? И отчего у вас такой дух ненависти? Я очень много знал дурных попов и могу вам рассказать множество смешных про них анекдотов, может быть больше, нежели вы. Но встречал зато и таких, которых святости жизни и подвигам я дивился, и видел, что они — созданье нашей восточной Церкви, а не западной. Итак, я вовсе не думал воздавать песнь духовенству, опозорившему нашу Церковь, но духовенству, возвысившему нашу Церковь.
Вы отделяете Церковь от Христа и христианства, ту самую Церковь, тех самых пастырей, которые мученической своей смертью запечатлели истину всякого слова Христова, которые тысячами гибли под ножами и мечами убийц, молясь о них, и наконец утомили самих палачей, так что победители упали к ногам побежденных, и весь мир исповедал это слово. И этих самых пастырей, этих мучеников-епископов, вынесших на плечах святыню Церкви, вы хотите отделить от Христа, называя их несправедливыми истолкователями Христа. Кто же, по-вашему, ближе и лучше может истолковать теперь Христа? Неужели нынешние коммунисты и социалисты, объясняющие, что Христос повелел отнимать имущества и грабить тех, которые нажили себе состояние?
Христос нигде никому не говорит, что нужно приобретать, а еще напротив и настоятельно нам велит уступать: снимающему с тебя одежду отдай последнюю рубашку, с просящим тебя пройти с тобой одно поприще, пройди два.
Нельзя, получа легкое журнальное образование, судить о таких предметах. Нужно для этого изучить историю Церкви. Нужно сызнова прочитать с размышленьем всю историю человечества в источниках, а не в нынешних легких брошюрках, написанных бог весть кем. Эти поверхностные энциклопедические сведения разбрасывают ум, а не сосредоточивают его.
Что мне сказать вам на резкое замечание, будто русский мужик не склонен к религии и что, говоря о Боге, он чешет у себя другой рукой пониже спины, замечание, которое вы с такою самоуверенностью произносите, как будто век обращались с русским мужиком? Что тут говорить, когда так красноречиво говорят тысячи церквей и монастырей, покрывающих русскую землю. Они строятся не дарами богатых, но бедными лептами неимущих, тем самым народом, о котором вы говорите, что он с неуваженьем отзывается о Боге, и который делится последней копейкой с бедным и Богом, терпит горькую нужду, о которой знает каждый из нас, чтобы иметь возможность принести усердное подаяние Богу. Нет, Виссарион Григорьевич, нельзя судить о русском народе тому, кто прожил век в Петербурге, в занятьях легкими журнальными статейками и романами тех французских романистов, которые так пристрастны, что не хотят видеть, как из Евангелия исходит истина, и не замечают того, как уродливо и пошло изображена у них жизнь.
Что для крестьян выгоднее: правление одного помещика, уже довольно образованного, который воспитался и в университете и который всё же, стало быть, уже многое должен чувствовать, или быть под управлением многих чиновников, менее образованных, корыстолюбивых и заботящихся о том только, чтобы нажиться? Да и много есть таких предметов, о которых следует каждому из нас подумать заблаговременно, прежде нежели с пылкостью невоздержного рыцаря и юноши толковать об освобождении, чтобы это освобожденье не было хуже рабства.
Еще меня изумила эта отважная самонадеянность, с которою вы говорите: «Я знаю общество наше и дух его», — и ручаетесь в этом. Как можно ручаться за этот ежеминутно меняющийся хамелеон? Какими данными вы можете удостоверить, что знаете общество? Где ваши средства к тому? Показали ли вы где-нибудь в сочиненьях своих, что вы глубокий ведатель души человека? Прошли ли вы опыт жизни? Живя почти без прикосновенья с людьми и светом, ведя мирную жизнь журнального сотрудника, во всегдашних занятиях фельетонными статьями, как вам иметь понятие об этом громадном страшилище, которое неожиданными явленьями ловит нас в ту ловушку, в которую попадают все молодые писатели, рассуждающие обо всем мире и человечестве, тогда как довольно забот нам и вокруг себя. Нужно прежде всего их исполнить, тогда общество само собою пойдет хорошо. А если пренебрежем обязанности относительно лиц близких и погонимся за обществом, то упустим и те и другие так же точно. Я встречал в последнее время много прекрасных людей, которые совершенно сбились. Одни думают, что преобразованьями и реформами, обращеньем на такой и на другой лад можно поправить мир; другие думают, что посредством какой-то особенной, довольно посредственной литературы, которую вы называете беллетристикой, можно подействовать на воспитание общества. Но благосостояние общества не приведут в лучшее состояние ни беспорядки, ни пылкие головы. Брожение внутри не исправить никаким конституциям. Общество образуется само собою, общество слагается из единиц. Надобно, чтобы каждая единица исполнила должность свою. Нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного гражданина, до тех пор не придет в порядок и земное гражданство.
Вы говорите, что Россия долго и напрасно молилась. Нет, Россия молилась не напрасно. Когда она молилась, то она спасалась. Она помолилась в 1612, и спаслась от поляков; она помолилась в 1812, и спаслась от французов. Или это вы называете молитвою, что одна из сотни молится, а все прочие кутят, сломя голову, с утра до вечера на всяких зрелищах, закладывая последнее свое имущество, чтобы насладиться всеми комфортами, которыми наделила нас эта бестолковая европейская цивилизация?
Литератор существует для другого. Он должен служить искусству, которое вносит в души мира высшую примиряющую истину, а не вражду, любовь к человеку, а не ожесточение и ненависть. Возьмитесь снова за свое поприще, с которого вы удалились с легкомыслием юноши. Начните сызнова ученье. Примитесь за тех поэтов и мудрецов, которые воспитывают душу. Вы сами сознали, что журнальные занятия выветривают душу и что вы замечаете наконец пустоту в себе. Это и не может быть иначе. Вспомните, что вы учились кое-как, не кончили даже университетского курса. Вознаградите это чтеньем больших сочинений, а не современных брошюр, писанных разгоряченным умом, совращающим с прямого взгляда.
Печатается по изданию: Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений в 14 томах. Л.: Изд-во академии наук СССР, 1952. Том 13, «К № 200», с. 435–446.